Подношение Целану
О некоторых аспектах
отрицательного богословия Пауля Целана
отрицательного богословия Пауля Целана
Анна Шмаина-Великанова
Определение воззрений Пауля Целана как отрицательного богословия, разумеется, во многом условно и декларативно; оно предваряет размышления о богословских и антропологических аспектах целановской поэзии. Я попытаюсь разобраться, что выражают устойчивые образы-термины Никто и Ничто – Niemand и Das Nichts – в стихах Целана. Эти термины, важные для всей его поэтики, особенно важны и даже, наверное, являются ключевыми для сборника «Die Niemandrose» («Роза Никому» или «Ничья роза»)[1].
Свой сборник Целан посвятил памяти Осипа Мандельштама, который олицетворял для него поэзию, еврейство и тождество одного с другим. Впрочем, другой поэт сделал это до Целана. Недаром одно из последних стихотворений в этой книге – страшное пророческое стихотворение «С книгой из Тарусы», описывающее прыжок с моста Мирабо «туда, где Ока не течет», – снабжено эпиграфом: «В сем христианнейшем из миров / поэты – жиды»[2]. Целан понимает эту формулу буквально: его поэтология представляет собой часть его религиозной веры, исключительно личной и в то же время неразрывно связанной с верой пророков, каббалистов, хасидов и христианских мистиков. Замечу также, что для Целана еврей, как и поэт, представляет собой крайний случай человека вообще. Вспомним снова Цветаеву: «Поэт – это утысячеренный человек». Что касается евреев – это поняли и многие послевоенные мыслители. Как говорит Эли Визель: «Ситуация еврейства предвосхищает ситуацию человечества».
В короткой статье невозможно подробно разъяснить такой широко известный религиозный феномен, как почитание Бога в виде Ничто, meon. Так называют Бога апофатические традиции самых разных религий и конфессий. Примеры можно отыскать в христианской мистике «мрака, который превыше всякого ума» (св. Григорий Нисский или Майстер Экхарт, которого так любил Целан), в суфизме, в буддизме, в Каббале. В самой грубой и приблизительной форме это означает, что, поскольку Бог радикально отличен от нас, мы не можем сделать о Нем никакого верного утверждения, даже того, что Он есть. Он больше любого определения и существует настолько в другом смысле, что это нельзя выразить в рамках человеческого языка. Иудаизм, особенно каббалистический, постоянно пользуется этими терминами. Бог как Эйн Соф (бесконечность) – Высшая Сфира – именуется также айин – никто или ничто[3]. Что и объясняет обращение к «ничто» или «никому» в центральных стихах этого сборника Целана – «Мандорла» и «Псалом»: «Слава тебе, Никто» («Gelobt seist du, Niemand»); «Стоит Ничто в миндале» («Es steht das Nichtsin der Mandel»), – а также и во многих других. Ничто или Никто – это Бог, Бог каббалистической традиции, но также Бог иудейской традиции в целом, потому что уже в эпоху Второго Храма собственное имя Бога стало запрещенным, непроизносимым. И Бог Библии превратился из Бога по преимуществу являющегося – в огне, в грозе, «в гласе хлада тонка» – в Бога по преимуществу сокрытого и прячущегося от обозначения, как Одиссей в пещере Полифема.
Свой сборник Целан посвятил памяти Осипа Мандельштама, который олицетворял для него поэзию, еврейство и тождество одного с другим. Впрочем, другой поэт сделал это до Целана. Недаром одно из последних стихотворений в этой книге – страшное пророческое стихотворение «С книгой из Тарусы», описывающее прыжок с моста Мирабо «туда, где Ока не течет», – снабжено эпиграфом: «В сем христианнейшем из миров / поэты – жиды»[2]. Целан понимает эту формулу буквально: его поэтология представляет собой часть его религиозной веры, исключительно личной и в то же время неразрывно связанной с верой пророков, каббалистов, хасидов и христианских мистиков. Замечу также, что для Целана еврей, как и поэт, представляет собой крайний случай человека вообще. Вспомним снова Цветаеву: «Поэт – это утысячеренный человек». Что касается евреев – это поняли и многие послевоенные мыслители. Как говорит Эли Визель: «Ситуация еврейства предвосхищает ситуацию человечества».
В короткой статье невозможно подробно разъяснить такой широко известный религиозный феномен, как почитание Бога в виде Ничто, meon. Так называют Бога апофатические традиции самых разных религий и конфессий. Примеры можно отыскать в христианской мистике «мрака, который превыше всякого ума» (св. Григорий Нисский или Майстер Экхарт, которого так любил Целан), в суфизме, в буддизме, в Каббале. В самой грубой и приблизительной форме это означает, что, поскольку Бог радикально отличен от нас, мы не можем сделать о Нем никакого верного утверждения, даже того, что Он есть. Он больше любого определения и существует настолько в другом смысле, что это нельзя выразить в рамках человеческого языка. Иудаизм, особенно каббалистический, постоянно пользуется этими терминами. Бог как Эйн Соф (бесконечность) – Высшая Сфира – именуется также айин – никто или ничто[3]. Что и объясняет обращение к «ничто» или «никому» в центральных стихах этого сборника Целана – «Мандорла» и «Псалом»: «Слава тебе, Никто» («Gelobt seist du, Niemand»); «Стоит Ничто в миндале» («Es steht das Nichtsin der Mandel»), – а также и во многих других. Ничто или Никто – это Бог, Бог каббалистической традиции, но также Бог иудейской традиции в целом, потому что уже в эпоху Второго Храма собственное имя Бога стало запрещенным, непроизносимым. И Бог Библии превратился из Бога по преимуществу являющегося – в огне, в грозе, «в гласе хлада тонка» – в Бога по преимуществу сокрытого и прячущегося от обозначения, как Одиссей в пещере Полифема.
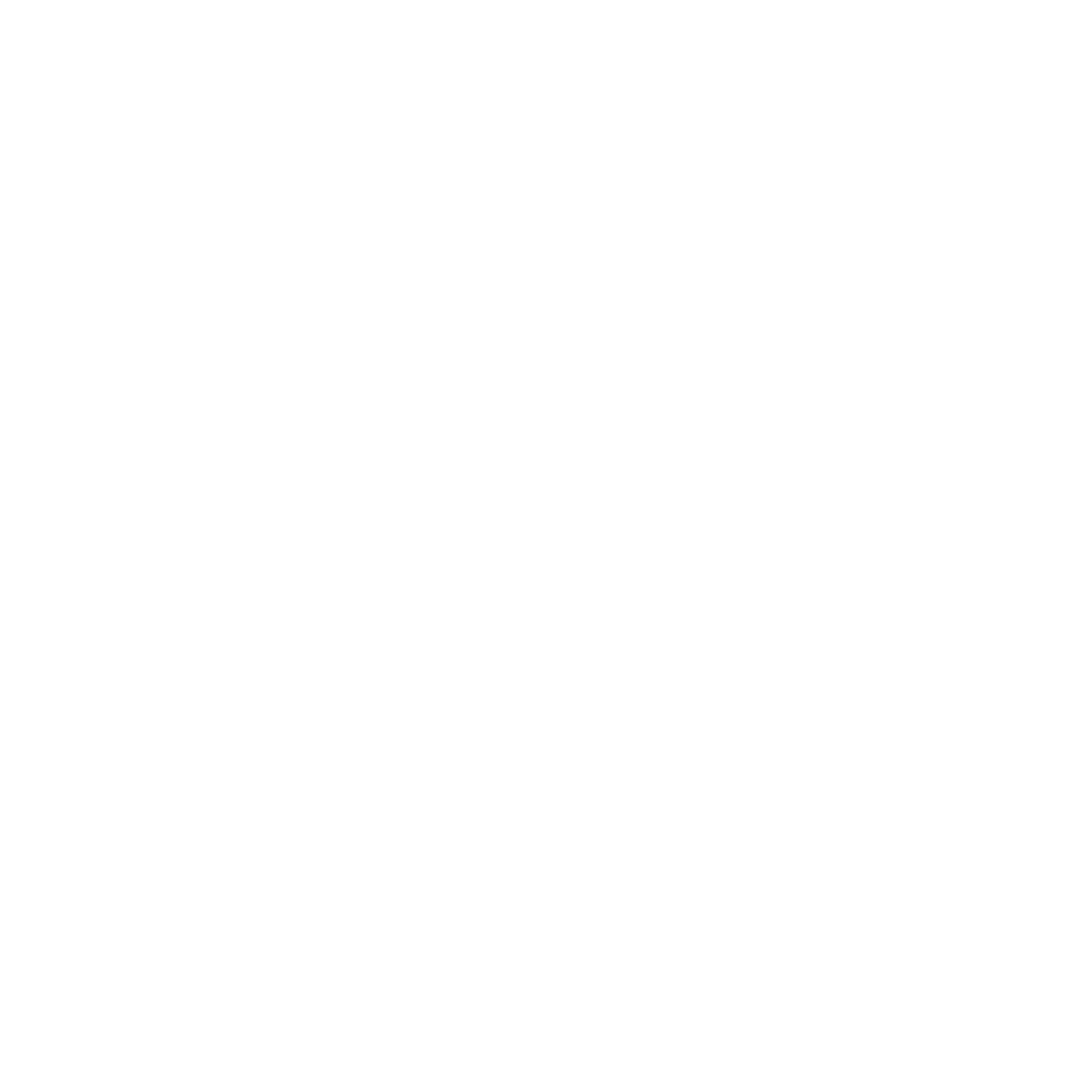
Сделайте предзаказ –
поддержите выход книги о Пауле Целане!
поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других.
Но этого объяснения совсем недостаточно, потому что, например, в том же «Псалме» несколькими строками ниже мы читаем: «Ничем были мы, остаемся, будем и впредь, расцветая» («Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben»). Или: «О некий, о всякий, о ты, никакой» («O einer, o keiner, o niemand, o du»). В некотором смысле, очень глубоко мистически скрытом, Niemand и niemand, Никто и никто – едины, но это единство не дается сразу, и к нему ведет только один путь – путь полного отказа от себя, когда человек становится никем. Но ситуации, из которых человек отправляется в путь отказа от себя, бывают разными. Это может быть состояние духовного поиска, острой потребности в Боге, приводящее человека к монашеству, отшельничеству, отрешенному созерцанию. Это может быть и состояние сильной любви, самозабвения, когда «я», самость, отделяющая человека от Бога, не уничтожается сознательным подвижническим трудом, а теряется в акте дарения себя другому. Но иногда человек становится никем вынужденно: его просто заставляют отказаться от себя. Изображая состояние «ничто», Целан начинает именно с этого, чудовищно простого. Лирический герой поэта (если такое слово хоть в какой-то мере применимо к данному субъекту), его никто, – это не аскет, сжегший свое «я» в горниле богопознания, но действительно любой человек, у которого отняли имя, родину, профессию, семью, имущество, наконец, человеческое достоинство и тело. Его ничто – это прежде всего то, что остается от человека, сожженного в газовой печи: «Пальцы легким дымом. Как короны, короны из воздуха». Целан постоянно говорит от имени этих уничтоженных людей, от имени «зарезанного племени» («Gemordete Geschlecht»); он употребляет местоимение «мы», даже когда речь идет об искусстве, например, о «пурпурном слове, пропетом нами» («das wir sangen»). Стоит заметить, что эта странность, которая может показаться грамматической вольностью поэта, обычной для Целана, свойственна речи выживших, уцелевших свидетелей. Очень часто, описывая свои испытания, выживший говорит о себе «мы», как бы бессознательно воскрешая тех, от кого ничего не осталось, давая им слово[4].
«Дает слово» – этот фразеологизм, быть может, занял центральное место в размышлении Целана о поэзии и языке. Выживший случайно поэт не только говорит от имени «миллионов убитых задешево», он пытается дать им слово, то есть пытается, во-первых, заставить их заговорить, а во-вторых – благословить их. Для этого нужно найти слово такой ценности, что оно может быть принесено в дар, в жертву погибшим. Воздвигнуть кенотаф. «Все те вместе сожженные имена, столько ждущего благословения пепла». Задача поэта, благословляющего прах, безмерно велика – никак не меньше, чем у Орфея; но она «не созерцательная, а деятельная», по слову Данте. И совсем не напоминает задачу демиурга. Поэт не создает иной мир – он меняет этот. И стихотворение в той мере есть, в той мере звучит и влияет, в какой поэт не бого-, но человекоподобен. «Людей мало. И потому-то, конечно, так мало стихов», – писал Целан издателю Хансу Бендеру. И в том же письме он, на мой взгляд, прямо возражает Хайдеггеру и его именно демиургическому пониманию поэтического призвания: «Пусть к нам не пристают с poieo и прочей чепухой».
Как ни велика задача поэта, исполняя ее, он не перестает быть человеком. Напротив, главное переживание, одушевляющее поэзию Целана, – это и есть основное переживание человеческого как такового, а именно переживание состояния быть тварью. Что делает тварь? Что составляет ее занятие и бытие? Об этом очень плодотворно, в точных логико-математических терминах размышляет протоиерей Илья Шмаин. Если кратко передать итог его размышлений, он неожиданно совпадет с тем, что говорит и Целан: тварь занята хвалой. «Хвалите Его на струнах и органе... Всякое дыхание да хвалит Господа» [Пс. 150:4,6]. Благословить прах и хвалить Господа – это единое задание. На языке православной церкви – «надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуйя»; на языке Целана – «уронил я слово одно, что меня искало: Каддиш». Для того чтобы иметь силы выполнить это задание, человек свое бытие должен воспринимать не как данность, а как дар. Первое, что он знает о себе: не «я есть», но – «я сотворен». Тогда через смерть он может найти хвалу: благословение и благодарность. Надо ли оговаривать, что для нашего слуха хвала поэта может звучать проклятием, яростным отрицанием («Против него говорил я») и кощунством? Бог тем не менее разгневался на друзей Иова: они «не хвалят Меня так хорошо, как раб Мой Иов» [Иов. 42:7].
Такое понимание поэтического призвания достаточно уникально для европейской культуры от Платона до Рильке. Ведь и для Рильке создание стихотворения – это прежде всего создание вещи, Kunstding. Для Целана стихи – не вещи, а поступки, шаги по пути к Другому. Быть может, видение поэзии не как уподобления божественному созерцанию Бытия, создающему замкнутый поэтический мир, но как благодарного ответного действия человека, воплощения связи между тварью и Творцом соответствует видению слова в богослужении, в церковном или синагогальном обряде; эта функция слова пока мало осмыслена в светской культуре. Слово поэта у Целана не магическое, активное, вызывающее ответное действие Бога, но сакральное: священнодействие человека в ответ творящему Слову Бога. В этом случае поэт уподобляется не Богу, а святому или, более всего, цадику каббалистической традиции. Бог, в акте самопожертвования становящийся Никем, передает некоторые божественные функции цадику, который в том же акте самопожертвования превращается в проводника, в орудие связи между Богом и человечеством. В одном из посмертно опубликованных стихотворений Целана (из сборника «Schneepart» – «Партия снега») сказано, что Бог исчезает из пространства, из расстояния как один из «маленьких праведников», цадиков.[5] А в другом стихотворении того же цикла цадик представлен смертным сосудом, погруженным в ничто, – через него изливается в мир животворящая сила Бога[6].
Если принять такое понимание роли поэта, становится ясно, почему Целан столь настойчиво говорит о стихах и о языке поэзии как о направленном, обращенном к другому. «Когда лишь Ничто между нами стояло, мы находили друг друга», – говоря так, он описывает другой, ненасильственный вид погружения в ничто, превращения в никого – способность потерять себя в другом, любовь. Еще в одном стихотворении того же цикла эта уникальная возможность потерять себя друг в друге, «без нас быть нами» названа Иерусалимом («Sag das Jerusalem ist»), местом полноты, местом божественного пребывания[7]. Каббалисты верят, что над истинно любящими простирает крылья Шехина – Божественное присутствие. А стихи – это только другая возможность взаимности, другая возможность встречи, «бессмертного общения» смертных. «Я не вижу, – писал Целан в уже упоминавшемся письме Хансу Бендеру, – разницы между стихотворением и рукопожатием». То есть стихотворение – это встреча, встреча человеческого с человеческим – руки с рукой – или человеческого с божественным. Иногда, как в праздник Сретения, это неразделимо. Человеческое ничто в хвале другому ничто, «человеческому-и-еврейскому» – как писал Целан, человеческому и божественному, в хвале, пропетой ценой жизни, «в пурпурном слове» превращается в мистическую розу, розу Креста.
Если предложенное понимание Niemand – Никто здесь оправданно, то знаменитую целановскую фразу, которую обычно прочитывают как предельное выражение одиночества, оставленности мученика, еврея, поэта: «никто не свидетельствует свидетелям» («Niemand zeugtfür den Zeugen»[8]), – можно перевести иначе: «Никто свидетельствует свидетелям», – и тогда это символ одинокой, отчаянной, упрямой веры. В письме философу Отто Пёггелеру Целан говорит об этом так:
«Дает слово» – этот фразеологизм, быть может, занял центральное место в размышлении Целана о поэзии и языке. Выживший случайно поэт не только говорит от имени «миллионов убитых задешево», он пытается дать им слово, то есть пытается, во-первых, заставить их заговорить, а во-вторых – благословить их. Для этого нужно найти слово такой ценности, что оно может быть принесено в дар, в жертву погибшим. Воздвигнуть кенотаф. «Все те вместе сожженные имена, столько ждущего благословения пепла». Задача поэта, благословляющего прах, безмерно велика – никак не меньше, чем у Орфея; но она «не созерцательная, а деятельная», по слову Данте. И совсем не напоминает задачу демиурга. Поэт не создает иной мир – он меняет этот. И стихотворение в той мере есть, в той мере звучит и влияет, в какой поэт не бого-, но человекоподобен. «Людей мало. И потому-то, конечно, так мало стихов», – писал Целан издателю Хансу Бендеру. И в том же письме он, на мой взгляд, прямо возражает Хайдеггеру и его именно демиургическому пониманию поэтического призвания: «Пусть к нам не пристают с poieo и прочей чепухой».
Как ни велика задача поэта, исполняя ее, он не перестает быть человеком. Напротив, главное переживание, одушевляющее поэзию Целана, – это и есть основное переживание человеческого как такового, а именно переживание состояния быть тварью. Что делает тварь? Что составляет ее занятие и бытие? Об этом очень плодотворно, в точных логико-математических терминах размышляет протоиерей Илья Шмаин. Если кратко передать итог его размышлений, он неожиданно совпадет с тем, что говорит и Целан: тварь занята хвалой. «Хвалите Его на струнах и органе... Всякое дыхание да хвалит Господа» [Пс. 150:4,6]. Благословить прах и хвалить Господа – это единое задание. На языке православной церкви – «надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуйя»; на языке Целана – «уронил я слово одно, что меня искало: Каддиш». Для того чтобы иметь силы выполнить это задание, человек свое бытие должен воспринимать не как данность, а как дар. Первое, что он знает о себе: не «я есть», но – «я сотворен». Тогда через смерть он может найти хвалу: благословение и благодарность. Надо ли оговаривать, что для нашего слуха хвала поэта может звучать проклятием, яростным отрицанием («Против него говорил я») и кощунством? Бог тем не менее разгневался на друзей Иова: они «не хвалят Меня так хорошо, как раб Мой Иов» [Иов. 42:7].
Такое понимание поэтического призвания достаточно уникально для европейской культуры от Платона до Рильке. Ведь и для Рильке создание стихотворения – это прежде всего создание вещи, Kunstding. Для Целана стихи – не вещи, а поступки, шаги по пути к Другому. Быть может, видение поэзии не как уподобления божественному созерцанию Бытия, создающему замкнутый поэтический мир, но как благодарного ответного действия человека, воплощения связи между тварью и Творцом соответствует видению слова в богослужении, в церковном или синагогальном обряде; эта функция слова пока мало осмыслена в светской культуре. Слово поэта у Целана не магическое, активное, вызывающее ответное действие Бога, но сакральное: священнодействие человека в ответ творящему Слову Бога. В этом случае поэт уподобляется не Богу, а святому или, более всего, цадику каббалистической традиции. Бог, в акте самопожертвования становящийся Никем, передает некоторые божественные функции цадику, который в том же акте самопожертвования превращается в проводника, в орудие связи между Богом и человечеством. В одном из посмертно опубликованных стихотворений Целана (из сборника «Schneepart» – «Партия снега») сказано, что Бог исчезает из пространства, из расстояния как один из «маленьких праведников», цадиков.[5] А в другом стихотворении того же цикла цадик представлен смертным сосудом, погруженным в ничто, – через него изливается в мир животворящая сила Бога[6].
Если принять такое понимание роли поэта, становится ясно, почему Целан столь настойчиво говорит о стихах и о языке поэзии как о направленном, обращенном к другому. «Когда лишь Ничто между нами стояло, мы находили друг друга», – говоря так, он описывает другой, ненасильственный вид погружения в ничто, превращения в никого – способность потерять себя в другом, любовь. Еще в одном стихотворении того же цикла эта уникальная возможность потерять себя друг в друге, «без нас быть нами» названа Иерусалимом («Sag das Jerusalem ist»), местом полноты, местом божественного пребывания[7]. Каббалисты верят, что над истинно любящими простирает крылья Шехина – Божественное присутствие. А стихи – это только другая возможность взаимности, другая возможность встречи, «бессмертного общения» смертных. «Я не вижу, – писал Целан в уже упоминавшемся письме Хансу Бендеру, – разницы между стихотворением и рукопожатием». То есть стихотворение – это встреча, встреча человеческого с человеческим – руки с рукой – или человеческого с божественным. Иногда, как в праздник Сретения, это неразделимо. Человеческое ничто в хвале другому ничто, «человеческому-и-еврейскому» – как писал Целан, человеческому и божественному, в хвале, пропетой ценой жизни, «в пурпурном слове» превращается в мистическую розу, розу Креста.
Если предложенное понимание Niemand – Никто здесь оправданно, то знаменитую целановскую фразу, которую обычно прочитывают как предельное выражение одиночества, оставленности мученика, еврея, поэта: «никто не свидетельствует свидетелям» («Niemand zeugtfür den Zeugen»[8]), – можно перевести иначе: «Никто свидетельствует свидетелям», – и тогда это символ одинокой, отчаянной, упрямой веры. В письме философу Отто Пёггелеру Целан говорит об этом так:
Может быть, стихи – это уровни воплощений некоего «занебесного места», они значат непосредственно, в силу принадлежащего им и дающего им очертания дыхания Божьего, им, отпечаткам ситуации смертности, если они открыты и кверху, и книзу. Еще существуют сообщающиеся сосуды, или совсем просто: есть любовь и те, кто способен ее принять.
[1] Все цитаты из стихов Целана взяты из этого сборника, если не указано иное.
[2] Строчки из «Поэмы конца» Марины Цветаевой (1924). Целан сокращает эту формулу до: «Все поэты – жиды».
[3] Замечу, что это слово на иврите омонимично слову глаз, поэтому в Каббале глаз символизирует Бога, не присутствующего в мире, и, возможно, это отчасти объясняет устойчивый образ глаза у Целана.
[4] Яркие примеры этой речевой особенности можно услышать в документальном фильме Клода Ланцмана «Шоа» (Франция, 1985), посвященном Холокосту.
[5] Gott gibt die Stimmgabel ab / als einer der kleinen / Gerechten... (Ich trinkt Wein aus zwei Glässern…)
[6] Стихотворение «Es kommt auch ein Sinn…»
[7] Из стихотворения "Die Pole sind in uns".
[8] Из стихотворения "Aschenglorie hinter" (сборник "Atemwende").
[2] Строчки из «Поэмы конца» Марины Цветаевой (1924). Целан сокращает эту формулу до: «Все поэты – жиды».
[3] Замечу, что это слово на иврите омонимично слову глаз, поэтому в Каббале глаз символизирует Бога, не присутствующего в мире, и, возможно, это отчасти объясняет устойчивый образ глаза у Целана.
[4] Яркие примеры этой речевой особенности можно услышать в документальном фильме Клода Ланцмана «Шоа» (Франция, 1985), посвященном Холокосту.
[5] Gott gibt die Stimmgabel ab / als einer der kleinen / Gerechten... (Ich trinkt Wein aus zwei Glässern…)
[6] Стихотворение «Es kommt auch ein Sinn…»
[7] Из стихотворения "Die Pole sind in uns".
[8] Из стихотворения "Aschenglorie hinter" (сборник "Atemwende").
