Подношение Целану
Некоторые космогонические аспекты поэзии Пауля Целана
Анна Шмаина-Великанова
В рамках этого эссе мне хотелось бы выяснить, какое место занимают некоторые растительные символы и связанные с ними образы в идейном мире поэзии Пауля Целана, в особенности в космогоническом аспекте.
Для начала отмечу некоторые сведения, может быть, недостаточно известные. Целан получил дома еврейское воспитание, т.е. бывал в синагоге, участвовал во встрече и проводах субботы, знал еврейский молитвенник. Он постоянно читал Библию в оригинале. Поступив в еврейскую гимназию, выучил современный иврит и до конца дней его не забывал, что выяснилось во время его поездки в Израиль в сентябре 1969 года. Уже во взрослом возрасте, преимущественно в 60-е годы, он изучал Каббалу, трудно установить, насколько фундаментально. И, наконец, он был внимательным, что видно и в стихах, и в письмах, и в прозе, читателем христианской мистики, в первую очередь Майстера Экхарта и св. Хуана Креста.
I. О миндале
Один из важных мотивов поэзии Целана – это миндаль, в первую очередь в книге Niemandsrose, посвященной Осипу Мандельштаму. Во-первых, он без конца играет с этой фамилией, видя ее даже не как символ, а как заголовок, как название. Если написать это слово по-немецки – der Mandelstamm, то это будет значить среди прочего «ствол миндального дерева» или «род (племя) миндаля». Соответственно, поэт Мандельштам, вместе не только с его произведениями и биографией, но и с его фамилией, представляет в глазах Целана эмблему Израиля.
Задолго до Niemandsrose и, видимо, до знакомства с поэзией Мандельштама миндаль появляется в стихах Целана. Но его собственный образ, не навеянный Мандельштамом, это чаще не дерево, а глаз, камень и слеза. «Убитые глаза миндаля» в ранних стихах восходит к расхожему выражению, упоминанию миндалевидных, т.е. еврейских глаз, в самых разных языках. Кроме того, миндаль ассоциируется со смертью (горький запах миндаля (мышьяка), и, разумеется, миндальный орех в скорлупе похож на камень, а расколотый напоминает глаз или слезу. Все эти образы, важнейшие в поэзии Целана, обнаруживаются уже в первых сборниках. В книге Niemandsrose появляются новые темы.
Для начала отмечу некоторые сведения, может быть, недостаточно известные. Целан получил дома еврейское воспитание, т.е. бывал в синагоге, участвовал во встрече и проводах субботы, знал еврейский молитвенник. Он постоянно читал Библию в оригинале. Поступив в еврейскую гимназию, выучил современный иврит и до конца дней его не забывал, что выяснилось во время его поездки в Израиль в сентябре 1969 года. Уже во взрослом возрасте, преимущественно в 60-е годы, он изучал Каббалу, трудно установить, насколько фундаментально. И, наконец, он был внимательным, что видно и в стихах, и в письмах, и в прозе, читателем христианской мистики, в первую очередь Майстера Экхарта и св. Хуана Креста.
I. О миндале
Один из важных мотивов поэзии Целана – это миндаль, в первую очередь в книге Niemandsrose, посвященной Осипу Мандельштаму. Во-первых, он без конца играет с этой фамилией, видя ее даже не как символ, а как заголовок, как название. Если написать это слово по-немецки – der Mandelstamm, то это будет значить среди прочего «ствол миндального дерева» или «род (племя) миндаля». Соответственно, поэт Мандельштам, вместе не только с его произведениями и биографией, но и с его фамилией, представляет в глазах Целана эмблему Израиля.
Задолго до Niemandsrose и, видимо, до знакомства с поэзией Мандельштама миндаль появляется в стихах Целана. Но его собственный образ, не навеянный Мандельштамом, это чаще не дерево, а глаз, камень и слеза. «Убитые глаза миндаля» в ранних стихах восходит к расхожему выражению, упоминанию миндалевидных, т.е. еврейских глаз, в самых разных языках. Кроме того, миндаль ассоциируется со смертью (горький запах миндаля (мышьяка), и, разумеется, миндальный орех в скорлупе похож на камень, а расколотый напоминает глаз или слезу. Все эти образы, важнейшие в поэзии Целана, обнаруживаются уже в первых сборниках. В книге Niemandsrose появляются новые темы.
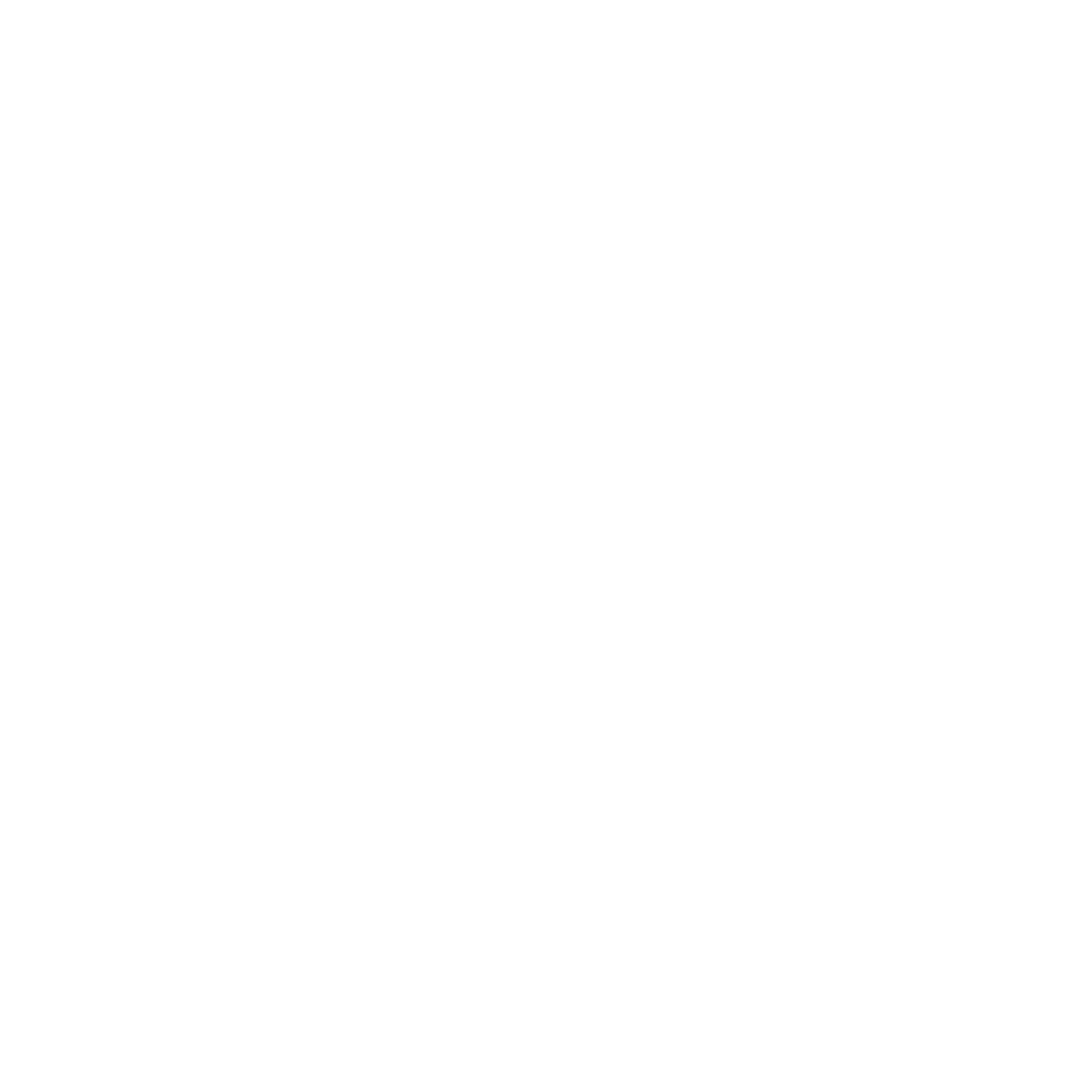
Сделайте предзаказ –
поддержите выход книги о Пауле Целане!
поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других.
В одном из стихотворений этого сборника, которое «пропето в Париже подле Понтуаза поутру Паулем Целаном из Черновиц подле Садагоры» (Садагора относится к Черновицам, как Понтуаз к Парижу), в страшном стихотворении, описывающем погром, появляется игра со словами «миндаль» и «Мандельштам»: «Mandelbaum, Bandelmaum. Mandeltraum, Trandelmaum» – и завершается эта игра словом «Chandelbaum», сводящим воедино понятия миндального дерева и подсвечника. Тем самым появляется не называемая менора. От черного юмора, от цветущего миндаля, от «Мы едем во Фриуль» и вырванной бороды он переходит к другому дереву Machandelbaum (можжевельник), напоминающему сказку братьев Гримм об отце, который повесил сына на этом дереве, и заканчивает зашифрованным обращением к семисвечнику. И затем – посылка: «Aber, aber er bäumt sich, der Baum. Er, auch er steht gegen die Pest». Оказывается, что это дерево сопротивляется, оно встает на дыбы, противо-стоит чуме. Итак, здесь мотив миндаля-смерти связывается с сопротивлением еврейского народа и образом меноры. Миндаль, миндальное дерево предстает, как я уже сказала, возможно, отчасти в связи с этой фамилией, как образ всего народа.
В оригинале библейского текста при описании меноры, стоящей в скинии перед жертвенником, употреблено слово meshuqadim. Его значение неясно, но уже в древности оно было понято как «подобные миндалю (яблоку, цветку миндаля).
Вообще в Библии миндаль, миндальное дерево, имеет важное символическое значение. Из миндаля сделан посох, жезл Аарона, который расцвел, и это доказывает избранность Аарона на священническое служение (Лев). В видении пророка Иеремии Бог показывает ему жезл миндального дерева и говорит: «Этот жезл сделан из миндаля, потому что Я бодрствую над словом Моим, чтобы оно исполнилось» [Иер. 1:12]. Слово shoqed обозначает как миндаль, так и бодрствующий, страж, тот, кто не спит всю ночь и смотрит, поэтому менора горит всю ночь.
Конечно, самый значительный из этих образов – это описанная в Исходе менора, подобная миндальному дереву (Исх.). Раши объясняет этот выбор миндаля как главного библейского дерева в Исх., Лев., Иер. тем, что миндаль первый зацветает. Но у пророка Захарии в четвертой главе видение меноры сопровождается другим объяснением: семь светильников меноры, семь ветвей – это глаза Бога, видящие все на земле. Из них изливается свет на землю (это связано с распространенным мифологическим представлением о том, что глаза не реципиент, но источник света).
Пророчество Захарии послужило основой для каббалистического понимания меноры. В Каббале менора, миндальное дерево – это древо сфирот. Созерцающий его участвует в творении мира. Одновременно менора представляет собой в нашей сфире, нижней сфире Малхут, т.е. Царства, в которой происходит все в мире, отображение всего древа сфирот. Также менора изображает Израиль в целом. Миндальное племя – это менора бытия. Мне кажется, об этом говорит Целан в стихотворении «Radix, matrix»[1]:
Wer,
wer wars, jenes
Geschlecht, jenes gemordete, jenes
schwarz in den Himmel stehende:
Rute und Hode – ?
(Wurzel.
Wurzel Abrahams. Wurzel Jesse. Niemandes
Wurzel – o
unser.
И в конце:
auch dieser
Fruchteboden klafft,
dieses
Hinab
ist die eine der wild-
blüchenden Kronen.
Слово wild-Kronen тоже из каббалистического словаря. Итак, миндальное племя, которое есть менора, – это уничтоженный род, крона внизу, а корни в небе, «ничей корень, о, наш» – это, как известно, точное изображение древа сфирот, у которого корни в бездне Бога, в бездне невидимого, отсутствующего, Эйн-соф (бесконечное, т.е. Бог) – это сфира Кетер (корона, венец), а крона наоборот – не Кетер, а Малхут – земля. Перевернутая, гибнущая менора, затухающая, оказывается бессмертной потому, что корень ее, основа (boden) этого древа, – это цветущая крона песни, поэзии. Древо сфирот – это одновременно, в нашем измерении – исторический путь Израиля, составляющий тело меноры, а в дотварном измерении – это Адам Кадмон – человек, из тела которого сотворен мир.
Человек, из которого сотворен мир – это, я полагаю, «Царь» из стихотворения Mandorla[2]:
In der Mandel – was steht in der Mandel?
Das Nichts.
Es steht das Nichts in der Mandel.
Da steht es und steht.
Im Nichts – wer steht da? Der König.
Da steht der König, der König.
Da steht er und steht.
Judenlocke, wirst nicht grau.
Und dein Aug – wohin steht dein Auge?
Dein Aug steht der Mandel entgegen.
Dein Aug, dem Nichts stehts entgegen.
Es steht zum König.
So steht es und steht.
Menschenlocke, wirst nicht grau.
Leere Mandel, königsblau.
Это стихотворение собирает все темы, о которых мы говорили до сих пор, и вводит новую, а именно, – das Nichts.[3] По свидетельству друга Целана, поэта Ива Бонфуа, непосредственным толчком или, во всяком случае, житейским поводом к написанию этого стихотворения послужило созерцание пустой мандорлы на полустершейся фреске в одной из старинных церквей французской провинции, где можно только угадывать трон и совсем нельзя угадать сидящую на троне фигуру, но зато отчетливо видна сама мандорла царского голубого цвета (Königblau – «берлинская лазурь»). Мне кажется, что в этом стихотворении, в словах «стоит там Ничто» и «стоит там Царь» звучит отголосок постулата еврейской мистики о том, что созерцание Бога есть созерцание Престола Царя. Целан и утверждает, и категорически отрицает его, потому что в этом стихотворении Бог представлен несуществующим в мире, неприсутствующим, как Ничто, однако в этом Ничто стоит Царь. И этот Царь – убитый еврей[4]. Или этот Царь – человек. «Еврейская прядь, ты не будешь седой» или людская прядь (в данном случае убитый еврей представляет собой прототип человека вообще). Так происходит перенос божественного атрибута на человека, потому что dein Aug, «глаза Бога, видящие всю землю», уставлен на Царя. Целан отождествляет Царя – Помазанника, сидящего на Престоле, сошедшего с Престола и ставшего одним из, с телом народа, как сказано в более раннем стихотворении Tenebrae:
der Leib eines jeden von uns
dein Leib, Herr[5].
Итак, можно сказать, что мотив миндаля приоткрывает нам видение древа сфирот или Адама Кадмона и его исторического аспекта – еврейского народа – как царя, принесшего себя в жертву, Агнца, закланного прежде сотворения мира. Адам Кадмон – это Христос. Царь, чье тело – народ, – это Христос, и Он же Тот, кто на него смотрит. Он созерцает и созерцаем. Бога, однако, нет. В миндале стоит Ничто. Стоит оно там и стоит. Бог в мире не присутствует. Как сказано в стихотворении Zűrich[6], посвященном Нелли Закс:
Von deinem Gott war die Rede, ich sprach
gegen ihn, ich
liess das Herz, das ich hatte,
hoffen…
Против или навстречу. Но последнее слово произносит Нелли Закс:
Wir
wissen ja nicht, weisst du,
wir
wissen ja nicht,
was
gilt.
На этом поэт останавливается: нам не дано знать, какой ценой. В чем заключается надежда, которую он позволил своему сердцу? Ответ Целана весьма неожидан для Каббалы, но прямо следует из всего его творчества: он надеется на присутствие другого человека. По Э. Левинасу (он был духовно близок Целану), отсутствие Бога в мире положительно, Он оставляет нам заместителя – «другого человека, чье лицо пробуждает в нас сострадание».
Царь, принесенный в жертву, жертвует собой не из общих соображений, но для этих людей, для конкретного другого человека. И поэт пытается следовать за ним.
В нескольких прозаических текстах: в «Меридиане», в Бременской речи, в особенности в письме Хансу Бендеру – Целан говорит об этом видении назначения поэзии. «Стихотворение, – говорит он, – обращено к другому. Оно – бутылка, брошенная в море, в надежде, что его подберут где-нибудь на взморье, на взморье сердца». И разбирая, что такое поэзия как ремесло – Handwerke, – он говорит: «Да, это дело рук, но эти руки – это не только умелые руки, руки мастера, это руки, принадлежащие человеку, единственной и смертной душе. Wahren Handen schreiben wahren Gedichte – только настоящие руки пишут настоящие стихи (или истинные руки пишут истинные стихи). – Я не вижу никакой принципиальной разницы между рукопожатием и стихотворением. Пусть нас оставят в покое со всеми их poein и другими бреднями. Это слово вместе со всем, что от него близко и от него далеко, означает совершенно другое, нежели то, что принято усваивать в актуальном контексте (это, естественно, камень в хайдеггеровский огород – А. Ш.-В.). Мы живем под темным небом», – кончает он это письмо, – и мало людей, и потому так мало стихов, и надежда, которая у меня есть, невелика». Итак, поэт – это голос жертвы и потому, что он говорит от имени молчания принесенного в жертву Царя, от имени загубленного племени миндаля, должен найтись кто-то (или Никто), кто его услышит.
Одно из последних стихотворений Целана, посвященное воспоминаниям о Хрустальной ночи 1938 года (Целан оказался ее очевидцем), называется Das Menoragedichte aus Berlin.
II. О розе
Другой, не менее важный мотив поэзии Целана – это роза. Этот ключевой мотив полнее всего раскрывается, на мой взгляд, в стихотворении Psalm[7]. Строка из него дала заглавие всему сборнику Niemandsrose.
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
die Nichts-, die
Niemandsrose.
Mit
dem Griffel seelenhell,
dem Staubfaden himmelswüst,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über
dem Dorn.[8]
Роза, конечно, неисчерпаемый символ для всей европейской поэзии, поэтому я не предполагаю выяснить все мотивы, которые Целан связывает с этим образом. Но хотелось бы понять, как связывается «роза никому», которая есть хвала и слава, с «розой гетто» из других стихов этого же сборника[9].
Mit Namen, getränkt
von jedem Exil.
Mit Namen und Samen,
mit namen, getaucht
in alle
Kelche, die vollstehn mit deinem
Königsblut, Mensch, – in alle
Kelche der grossen
Ghetto-Rose, aus der
du uns ansiehst, unsterblich von soviel
auf Morgenwegen gestorbenen Toden.
<…>
Und es steigt eine Erde herauf, die unsere,
diese.
Und wir schicken
keinen der Unsern hinunter
zu dir,
Babel.
Выражение «роза гетто» не придумано Целаном, оно существует даже в идише. Rosengeschlecht, род, поколение или община розы – это Израиль. Израиль в истории есть община розы – почему? Одно из возможных объяснений встречается в Зогаре. Рабби Хезкия бар Рав начал одно из поучений такими словами: «Написано: “Как роза между терниями, так возлюбленная моя между девицами”. Что означает слово «роза»? – Оно означает общину Израиля, knesset Israel». Итак, Зогар утверждает, что Израиль есть hebrat shoshana, Rosengeschlecht (община розы). «И как сердцевина розы окружена лепестками, – продолжает рабби Хезкия, – так окружен Израиль тринадцатью путями жертвы и милосердия». Другое числовое значение розы в Каббале – это пять. Скорее всего, это связано с древней европейской символикой – пятилепестная роза (шиповник) Афродиты. Пять лепестков – это пять парцуфим (лики непознаваемого Бога), т.е. другой аспект или изоморфизм десяти сфирот, другая сторона той же божественной полноты. Если древо десяти сфирот – это миндаль, менора, то роза – это просто другое представление, другой уровень того же самого в виде единства всех пяти парцуфим в Эйн-соф. С другой стороны, эти угрожающие числа, тринадцать и пять, говорят о гибельной розе как о жертвенной смерти.
В преданиях раннего христианства роза вырастает из сожженного пепла мучеников, поэтому розу изображали на могилах мучеников и поэтому в катакомбах роза соседствует с менорой или цветет на кресте. Это вызывает в памяти строку из стихотворения Stretta: «Asche. Asche, Asche». Или в перекликающихся со «Стреттой» стихах Нелли Закс образ праха, превращающегося в свет. Видимо, из тех же раннехристианских преданий берет начало средневековый образ розы на кресте, Rosenkranz, сердца Иисуса, чьей кровью окрашены лепестки розы, прежде бывшей белой. Также в Зогаре, р. Хезкия, бар Рав говорит, что белая роза – это Израиль, чьи грехи прощены и прошлое убелено, а красная роза – это Израиль мучеников, освящающий Имя Божье.
Одновременно целановская роза – это чаша, полнящаяся царской кровью человека. На некоторых средневековых изображениях Грааль, чаша, в которую собрана Кровь Христа, представляет собой розу. Эта роза – чаша нашего возношения, наш дар и песнь: «Ради Тебя мы хотим цвести. Тебе навстречу». Кроме того, в следующем стихотворении этого же цикла, роза гетто – это рай – Ghetto und Eden. Пролитая жертвенная кровь превращает гетто в рай, мистическую розу дантовского Рая и средневековых соборов. Это роза, дающая свет. В этом мотиве слышатся отголоски каббалистических интерпретаций истории творения и христианской средневековой мистики, особенно ее отражения в изобразительном искусстве, в розе витража, которая есть способ излияния света в мир.
Роза света и семь свечей меноры (в Зогаре они отождествляются c семью сфирот, дающими вместе свет Зогар), в человеческом свидетельстве преображаются в свет субботних свечей. В Huttenfenster [10] Целан говорит об этом так:
Beth, – das ist
das Haus, wo der Tisch steht mit
dem Licht und dem Licht.
Какой же тот свет и этот? «Знаешь, на камне лежал я тогда, на каменных плитах; подле меня лежали они, те другие <…> и они не любили меня, а я не любил их, потому что я был один, кто захочет любить одного, а их было много, намного больше, чем тех, что лежали около меня, а кому захочется полюбить всех, и я, я не скрываю от тебя, я не любил их, их, которые не могли полюбить меня, я любил свечу, которая там горела, слева в углу, я любил ее, потому что она догорала, не потому, что догорала она, ведь она, то была его свеча, свеча, которую он, отец наших матерей, зажег, потому что в тот вечер начинался день, один определенный день, день, что был седьмой, за которым должен следовать первый, седьмой, а не последний, я любил, брат, не ее, я любил ее догорание, ты знаешь, я больше ничего не любил с тех пор <…> я со свечой, с догоревшей свечой, я с тем днем, я с теми днями, я тут и я там, я, быть может – теперь! – окруженный любовью тех, нелюбивших, я здесь на дороге к себе, наверху»[11]. Так кончается самое прямое прозаическое сочинение Целана «Разговор на горе».
Подводя итог сказанному, я позволю себе свести оба мотива – огненной розы и меноры, которая есть миндальное дерево, чья крона внизу, а корень – в Боге, – в образ субботней свечи. Эта свеча в еврейской мистической традиции символизирует свет, который сотворен прежде светил, (поэтому субботние свечи зажигаются в присутствии какого-нибудь еще источника света). Это неприсутствующий, как Бог в мире, свет уничтоженного очага, свет, который не хочет утешать[12].
[1] «Radix, matrix» // П. Целан. Стихотворения. Пер. с немецкого М. Белорусца. Гамаюн. Киев, 1998. Стр. 54-55
<…>
Каков
каков он был, тот
род, тот загубленный, тот
черно вставший в небо:
уд и семянник?
(Корень.
Корень Авраамов, Корень Иессеев. Ничей
корень – о
наш.)
<…>
И это
плодоложе зияет,
этот
Низ –
одна из буйно
цветущих крон.
[2] «Мандорла» // П. Целан. Одиннадцать стихотворений в пер. О. Седаковой. Контекст №4, 1999. Стр. 221
В миндале – что стоит в миндале?
Ничто.
Стоит ничто в миндале.
Стоит оно там и стоит.
В ничем – кто там стоит? Там Царь.
Стоит там Царь, Царь.
Стоит он там и стоит.
Еврейская прядь, ты не будешь седой.
А твой взгляд, на что уставлен твой взгляд?
Твой взгляд уставлен на миндаль
Твой взгляд уставлен на ничто
Уставлен на Царя.
И так он стоит и стоит.
Людская прядь, ты не будешь седой.
Пустой миндаль, царский голубой.
[3] Mandorla от mandelum – миндаль в иконографии обозначает овальный нимб, окружающий Христа, сидящего на царском престоле.
[4] Judenlocke – «еврейский завиток» означает собственно пейсы. Итак, вся фраза говорит: «Пейсы срежут раньше, чем они станут седыми», т.е. «Еврей, тебя убьют молодым».
[5] Tenebrae // там же. Стр. 220
<…>
тело любого из нас –
тело твое Господь
<…>
[6] «Radix, matrix» // П. Целан. Стихотворения. Пер. с немецкого М. Белорусца. Стр. 40
<…>
О твоем Боге речь шла, против него
я говорил, я
позволил
своему сердцу надежду
<…>
Нам,
знаешь, не дано,
не дано
знать,
какой
ценой.
[7] «Псалом» // П. Целан. Одиннадцать стихотворений в пер. О. Седаковой. Стр. 223
Некому замесить нас опять из земли и глины,
некому заклясть наш прах.
Некому.
Слава тебе, Никто.
Ради тебя мы хотим
цвести.
Тебе
навстречу.
Ничем
были мы, остаемся, будем
и впредь, расцветая:
Из Ничего –
Никому – роза.
Вот
пестик ее сердечно-святой
тычинки небесно-пустые
красный венец
из пурпурного слова, которое мы пропели
поверх, о, поверх
терний.
[8] Внутри сложного цельного образа этих стихов стоит, мне кажется, отметить важный для Целана оттенок значения слова Griffel как письменной принадлежности.
[9] «Вывенчан, выплюнут в ночь» // П. Целан. Стихотворения. Пер. с немецкого М. Белорусца. Стр. 67
<…>
С именем и семенем,
с именем, окропленным
во всех
чашах, что полнятся твоею
царской кровью, человек – во всех
чашах-чашечках той большой
розы гетто, откуда
ты глядишь на нас, бессмертный от стольких
смертельных смертей на утренних дорогах.
<…>
И встает земля наша
эта.
И мы не шлем
никого из наших вниз,
к тебе, Вавилон.
[10] «Окно хижины» // Там же. Стр. 71
<…>
бет – это
Дом, где стоит стол, где
тот светоч и этот.
[11] «Разговор в горах» // Там же. Стр. 97–98
[12] Glanz, der nicht trösten will, Glanz. «Сиянье, которое утешить не хочет, сиянье». «Ассизи» // П. Целан. Одиннадцать стихотворений в пер. О. Седаковой. Стр. 228
<…>
Каков
каков он был, тот
род, тот загубленный, тот
черно вставший в небо:
уд и семянник?
(Корень.
Корень Авраамов, Корень Иессеев. Ничей
корень – о
наш.)
<…>
И это
плодоложе зияет,
этот
Низ –
одна из буйно
цветущих крон.
[2] «Мандорла» // П. Целан. Одиннадцать стихотворений в пер. О. Седаковой. Контекст №4, 1999. Стр. 221
В миндале – что стоит в миндале?
Ничто.
Стоит ничто в миндале.
Стоит оно там и стоит.
В ничем – кто там стоит? Там Царь.
Стоит там Царь, Царь.
Стоит он там и стоит.
Еврейская прядь, ты не будешь седой.
А твой взгляд, на что уставлен твой взгляд?
Твой взгляд уставлен на миндаль
Твой взгляд уставлен на ничто
Уставлен на Царя.
И так он стоит и стоит.
Людская прядь, ты не будешь седой.
Пустой миндаль, царский голубой.
[3] Mandorla от mandelum – миндаль в иконографии обозначает овальный нимб, окружающий Христа, сидящего на царском престоле.
[4] Judenlocke – «еврейский завиток» означает собственно пейсы. Итак, вся фраза говорит: «Пейсы срежут раньше, чем они станут седыми», т.е. «Еврей, тебя убьют молодым».
[5] Tenebrae // там же. Стр. 220
<…>
тело любого из нас –
тело твое Господь
<…>
[6] «Radix, matrix» // П. Целан. Стихотворения. Пер. с немецкого М. Белорусца. Стр. 40
<…>
О твоем Боге речь шла, против него
я говорил, я
позволил
своему сердцу надежду
<…>
Нам,
знаешь, не дано,
не дано
знать,
какой
ценой.
[7] «Псалом» // П. Целан. Одиннадцать стихотворений в пер. О. Седаковой. Стр. 223
Некому замесить нас опять из земли и глины,
некому заклясть наш прах.
Некому.
Слава тебе, Никто.
Ради тебя мы хотим
цвести.
Тебе
навстречу.
Ничем
были мы, остаемся, будем
и впредь, расцветая:
Из Ничего –
Никому – роза.
Вот
пестик ее сердечно-святой
тычинки небесно-пустые
красный венец
из пурпурного слова, которое мы пропели
поверх, о, поверх
терний.
[8] Внутри сложного цельного образа этих стихов стоит, мне кажется, отметить важный для Целана оттенок значения слова Griffel как письменной принадлежности.
[9] «Вывенчан, выплюнут в ночь» // П. Целан. Стихотворения. Пер. с немецкого М. Белорусца. Стр. 67
<…>
С именем и семенем,
с именем, окропленным
во всех
чашах, что полнятся твоею
царской кровью, человек – во всех
чашах-чашечках той большой
розы гетто, откуда
ты глядишь на нас, бессмертный от стольких
смертельных смертей на утренних дорогах.
<…>
И встает земля наша
эта.
И мы не шлем
никого из наших вниз,
к тебе, Вавилон.
[10] «Окно хижины» // Там же. Стр. 71
<…>
бет – это
Дом, где стоит стол, где
тот светоч и этот.
[11] «Разговор в горах» // Там же. Стр. 97–98
[12] Glanz, der nicht trösten will, Glanz. «Сиянье, которое утешить не хочет, сиянье». «Ассизи» // П. Целан. Одиннадцать стихотворений в пер. О. Седаковой. Стр. 228
