Подношение Целану
Слово о Пауле Целане
Александр Шимановский
Решающим измерением для поэта, и это не отговорка, остается язык. Тот же язык, чей феноменальный характер философ и назвал «домом бытия», становится условием поэтической речи, в которой действительность выявляет себя как таковую, быть может, впервые. Речь Пауля Целана задана в пределах той же, чудом уцелевшей среди множества потерь, досягаемости – досягаемости немецкого языка – словесности. Но выходит – или вернее будет сказать, сходится – она за его пределами, пройдя через те же коридоры бессилия и немоты, через которые ей должно было пройти к еще «неокликнутой реальности», к обращению.
Где она стоит?
Стоит не дальше протянутой руки.
Стихотворение существует в той связи слов, при которой они движутся друг к другу и друг от друга. Они обращены в этой связи и к собственному порядку.
Мы стоим вблизи – на месте стихотворения, в уподобленной нам же точке, явленной всякий раз как безусловность, – другого. Целан начинает с того, что вводит читателя в темноту – открытость – поэтического. И даже больше: дает слово, а может, и просто знак тому, кто на месте некоего темного пятна с неизбежностью протягивает, со-мыслит руку в ответ. В этом знаке – протянутой руки – говоря словами того же философа, есть нечто «более заземляющее, чем поэзия, более основывающее, чем мышление».
Где она стоит?
Стоит не дальше протянутой руки.
Стихотворение существует в той связи слов, при которой они движутся друг к другу и друг от друга. Они обращены в этой связи и к собственному порядку.
Мы стоим вблизи – на месте стихотворения, в уподобленной нам же точке, явленной всякий раз как безусловность, – другого. Целан начинает с того, что вводит читателя в темноту – открытость – поэтического. И даже больше: дает слово, а может, и просто знак тому, кто на месте некоего темного пятна с неизбежностью протягивает, со-мыслит руку в ответ. В этом знаке – протянутой руки – говоря словами того же философа, есть нечто «более заземляющее, чем поэзия, более основывающее, чем мышление».
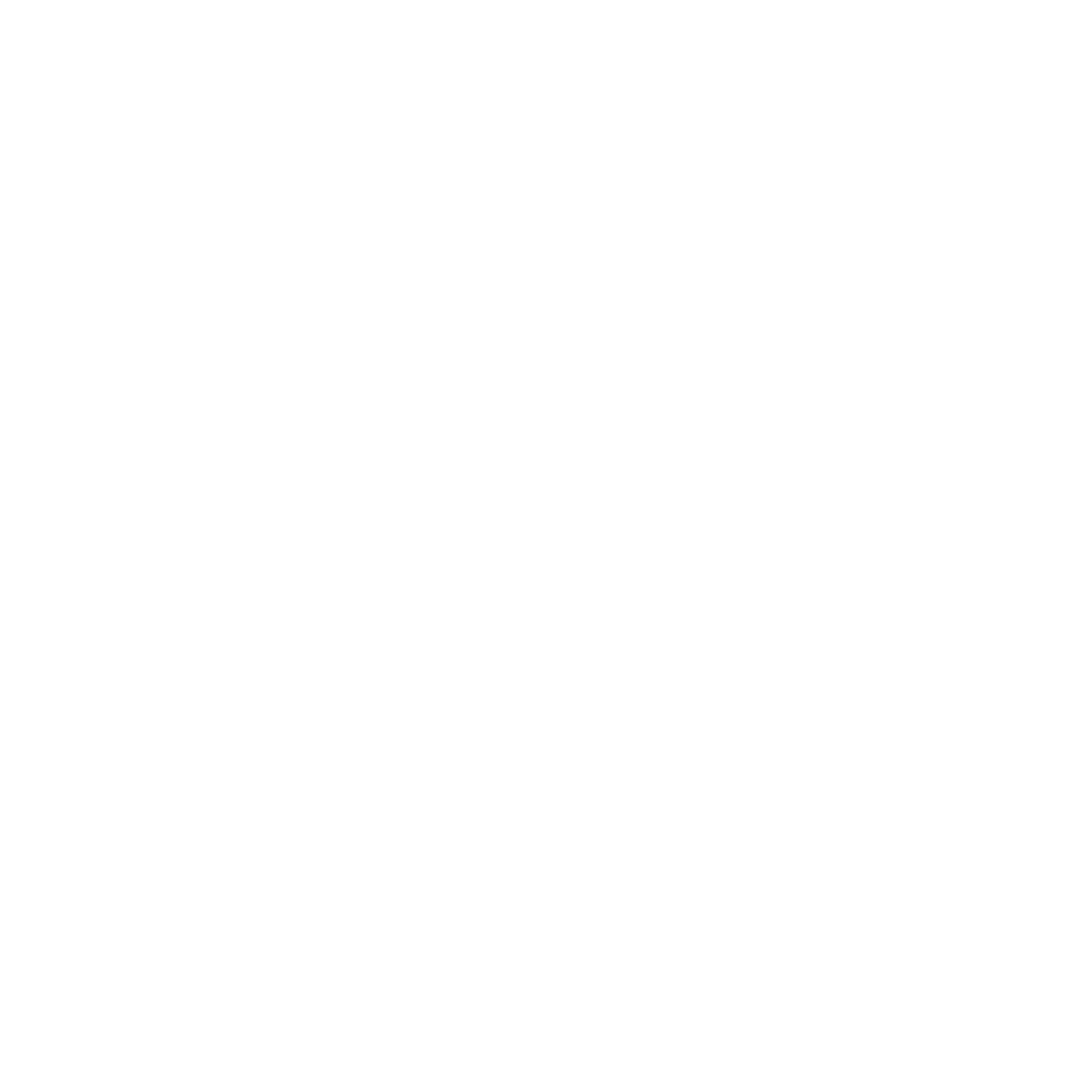
Сделайте предзаказ –
поддержите выход книги о Пауле Целане!
поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других.
Благодарность. Открытость, утверждение мира.
Слово в открытости конкретного, в наклоне общего свидетельства и собственной фигуре в стране неверных, in partibus infidelium, – как это однажды уже отметила Цветаева – слуха, уст, предчувствующих возможность поэзии, самой возможности говорить. В пределе этой же возможности представление человека теперь означает продвижение для. Для других, для всех. Опыт Целана выступает в противо-стояние, а значит, вообще «способен к стоянию», в котором оказаться никак иначе, кроме как «во плоти», невозможно. Сделать это – выстоять – извне не получается.
Пауль Целан – поэт в свете катастрофы, то есть человек в истории, как ни странно, изолированный от фактов ее нарратива; форм факта, отбираемых и выстраиваемых всегда постфактум, воздухом чужого. Здесь нет ясности (объективности) взгляда; глаз-как-таковых. Свидетельство – в том неожиданном для нас смысле начала – постоянного воплощения, нахождения в полюсе обетования неназываемой волей.
Корень – то есть сам человек, и в этом поэт откровенен – понимается как поступок, поступок присутствия. Ничто – безусловно. Никто не условился, кому «вновь замесить нас из персти и глины // заклясть наш прах». Никто не выбран – и острее – не избран на это участие, но тем не менее еще остается место. Место в языке. Niemand. Ничто. Есть такое наличие места, которое не располагается само в себе и в котором, кажется, нет возможности быть, просто находиться: никто, ничто, никому. Место оставлено, то есть предоставлено себе самому. Перспектива такого творения: Никем – из Ничего – Никому, – не велит «не быть» с необходимостью. Она безусловно и невидимо указывает на возможность Другого, свою решимость на единственную и судьбоносную действительность.
Можно сказать больше: в Другом собирается действительность для Целана.
«Camerado, this is no book // Who touches this touches a man», – используемая в переписке и характерная для Целана цитата из У. Уитмена.
На что уставлены твои руки?
Они уставлены на человека.
Слово в открытости конкретного, в наклоне общего свидетельства и собственной фигуре в стране неверных, in partibus infidelium, – как это однажды уже отметила Цветаева – слуха, уст, предчувствующих возможность поэзии, самой возможности говорить. В пределе этой же возможности представление человека теперь означает продвижение для. Для других, для всех. Опыт Целана выступает в противо-стояние, а значит, вообще «способен к стоянию», в котором оказаться никак иначе, кроме как «во плоти», невозможно. Сделать это – выстоять – извне не получается.
Пауль Целан – поэт в свете катастрофы, то есть человек в истории, как ни странно, изолированный от фактов ее нарратива; форм факта, отбираемых и выстраиваемых всегда постфактум, воздухом чужого. Здесь нет ясности (объективности) взгляда; глаз-как-таковых. Свидетельство – в том неожиданном для нас смысле начала – постоянного воплощения, нахождения в полюсе обетования неназываемой волей.
Корень – то есть сам человек, и в этом поэт откровенен – понимается как поступок, поступок присутствия. Ничто – безусловно. Никто не условился, кому «вновь замесить нас из персти и глины // заклясть наш прах». Никто не выбран – и острее – не избран на это участие, но тем не менее еще остается место. Место в языке. Niemand. Ничто. Есть такое наличие места, которое не располагается само в себе и в котором, кажется, нет возможности быть, просто находиться: никто, ничто, никому. Место оставлено, то есть предоставлено себе самому. Перспектива такого творения: Никем – из Ничего – Никому, – не велит «не быть» с необходимостью. Она безусловно и невидимо указывает на возможность Другого, свою решимость на единственную и судьбоносную действительность.
Можно сказать больше: в Другом собирается действительность для Целана.
«Camerado, this is no book // Who touches this touches a man», – используемая в переписке и характерная для Целана цитата из У. Уитмена.
На что уставлены твои руки?
Они уставлены на человека.
