Подношение Целану
Порог речи и речь за порогом
Ольга Седакова
Порог речи, сбивающий ее с толку, – молчание, амехания, ошеломление, ужас, тоска[1]. За порогом речь продолжается? Да, но другая… уже с другой явью и другим сном, как речь настоящей поэзии и настоящей мысли. Только она умеет хранить молчание, само молчание себя не может хранить, потому что молчание всегда – говорящее.
В. В. Бибихин
Порог речи, и этот порог – область, в которой имена отсутствуют (Страна Утрата, das Land Verloren); там то, что совершенно невысказываемо – и одновременно всей силой требует быть высказанным, потому что если оно высказано и сообщено, оно воскреснет, оно будет спасено…
Сияние, которое не хочет утешить, сиянье.
Мертвые, Франциск, – они еще ждут подаянья.
Glanz, der nicht troesten will, Glanz.
Die Toten – sie betteln noch, Franz.
Высказать эту область можно уже только по ту сторону порога речи, пройдя его и выйдя наружу.
Это нельзя даже назвать центральной темой Пауля Целана: это то положение, из которого, в котором он начинает всякую речь (стихотворение для него – прежде всего речь). Слов, как он нередко говорит, получается слишком много, но все они «наслоены вокруг крохотного кристалла в облике твоего (чьего?) молчания» (“Unten”).
И что еще важно: пороговое, молчащее, запрещающее речь и одновременно молящее о ней у Целана всегда смотрит. Можно сказать, оно не спускает глаз – и этим взглядом требует ответной речи: но какой-то другой, еще никому неизвестной речи. То, что видит Целан, – не видимое, а глядящее. Обмен взглядами у него – аналог беседы. Речь, которая ему нужна, тоже должна быть глядящей. Я думаю, в этом первая задача переводчика Целана: передать в другом языке глядящую на нас, молчащую – но молчащую не вообще, а молчащую нам – силу его речи. Больше всего в этом поможет ритм.
Свои слова о пороге речи и о другой речи, уже после порога (слова, с которых я начала), Владимир Бибихин относит ко всей настоящей поэзии и настоящей мысли. Но особенно это наглядно в отношении поэзии ХХ века, и европейской, и русской. Все значительные поэты ХХ века встречаются, вольно или невольно, с этим положением – и их речь оказывается «трудной» для тех, кто привык к обыденному слову. Однако и среди них градус напряжения речи Целана, градус «трудности» его стиха (то есть, перемена в нем значений слов, их последовательности, их соединений – в сравнении с привычными) значительно выше. Может быть, это происходит потому, что Целану требуется преодолеть более высокий порог, затрудняющий всякое говорение: горе Катастрофы, за которым, как привыкли повторять за Т. Адорно, поэзия вообще невозможна. Пауль Целан создал эту, невозможную после Освенцима, поэзию – и она оказалась высокой, гимнической поэзией нового строя («Псалом»).
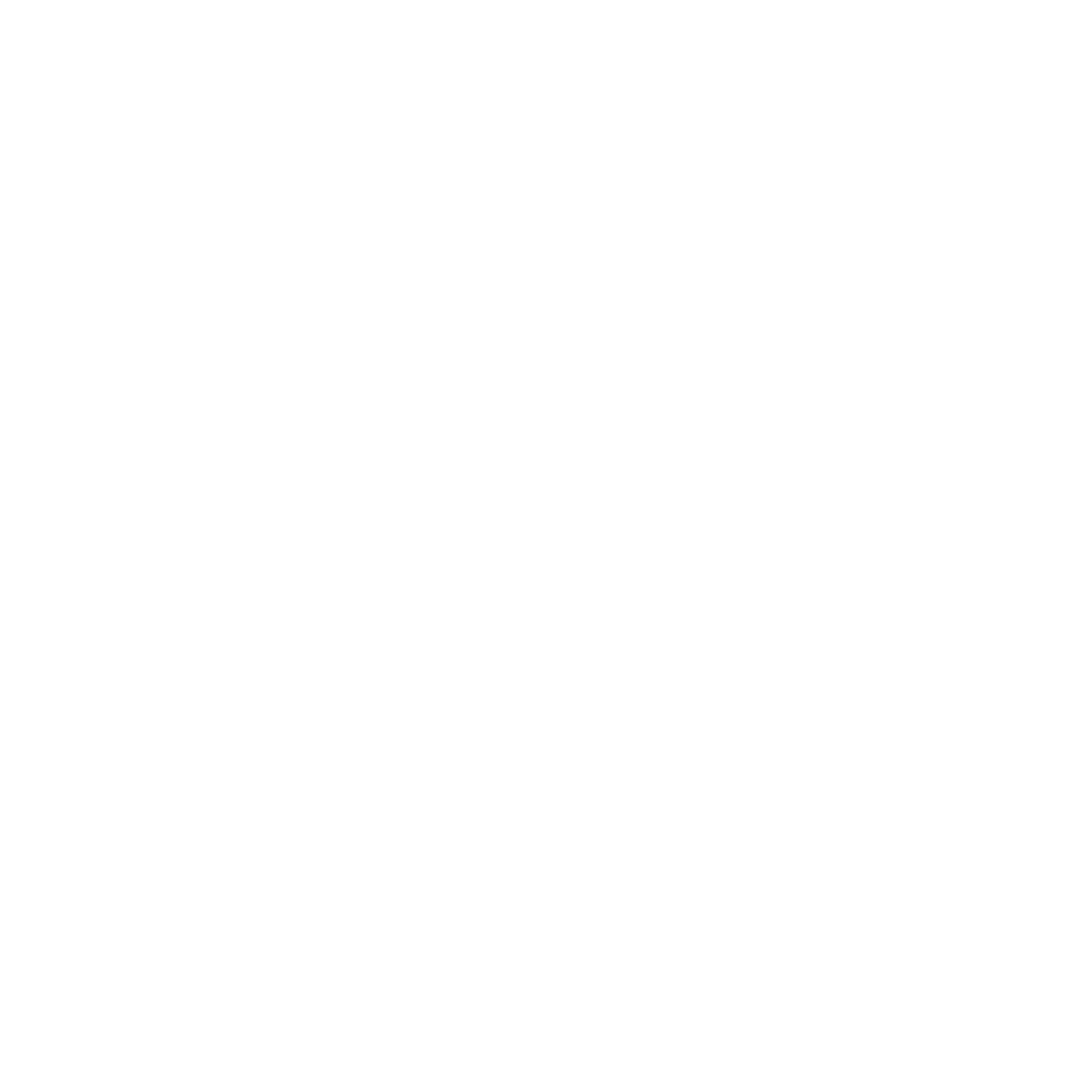
Сделайте предзаказ –
поддержите выход книги о Пауле Целане!
поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других.
Целан не раз решительно возражал против понимания его стихов как герметических (герметическая поэзия по-своему проще: искушенный читатель знает, что здесь задавать вопрос «о чем это?» просто неграмотно: это поэтическая вещь, и всё; следите за саморазвитием словесных рядов). Но задача Целана никак не в том, чтобы создать совершенную и самодостаточную «вещь искусства»: он хочет что-то крайне важное сообщить[2].
Два как будто несовместимых движения составляют энергию его стиха: это вход (его словами) в самую узкую, самую сжатую область собственной внутренней жизни (в ее порог), куда и сам человек не часто проникает – и тем более не может надеяться разделить его с кем-то еще – и одновременное сильнейшее стремление вынести на свет, сообщить ее обращение другому, «тебе». И сделать это так же прямо и просто, как это делает – его словами – протянутая для рукопожатия рука.
Два как будто несовместимых движения составляют энергию его стиха: это вход (его словами) в самую узкую, самую сжатую область собственной внутренней жизни (в ее порог), куда и сам человек не часто проникает – и тем более не может надеяться разделить его с кем-то еще – и одновременное сильнейшее стремление вынести на свет, сообщить ее обращение другому, «тебе». И сделать это так же прямо и просто, как это делает – его словами – протянутая для рукопожатия рука.
[1] Позволю себе уточнить слова В.В. Бибихина. Таким порогом речи может быть не только то, что он назвал (ужас, тоска), но и встреча с блаженством, простором, высотой, которая не поддается высказыванию.
[2] И «время», и «язык» для Пауля Целана – не последние реальности.
Ему нужно что-то более реальное и более первое, чем язык.
Рядом с его мыслью о том, что «он не видит большой разницы между стихотворением и рукопожатием», можно понять, насколько вещна привычная мысль об искусстве. Поэт у Целана не изготовляет «прекрасные вещи», он делает движение в сторону другого человека: он протягивает руку. И здесь возникает вопрос: тогда почему же так труден, так темен смысл этих стихов? Потому, что общение, которого ждет Целан, очень серьезно. Такого почти не бывает.
