Подношение Целану
Целан и София
Александр Марков
Ритмические двойчатки у Целана найти нетрудно, но мыслью они становятся тогда, когда бытие-двойчаткой начинается с заглавия, или с первой, или с последней строки. Одно из интересующих нас стихотворений открывается спондеем заглавия:
Ich weiss
Und du, auch du -:
verpuppt.
Wie alles Nachtgewiegte.
Dies Flattern, Flügeln rings:
ich hörs – ich seh es nicht!
Und du,
wie alles Tagenthobene:
verpuppt.
Und Augen, die dich suchen.
Und mein Aug darunter.
Ein Blick: ein Faden mehr, der dich umspinnt.
Dies späte, späte Licht.
Ich weiß: die Fäden glänzen.
Und du, auch du -:
verpuppt.
Wie alles Nachtgewiegte.
Dies Flattern, Flügeln rings:
ich hörs – ich seh es nicht!
Und du,
wie alles Tagenthobene:
verpuppt.
Und Augen, die dich suchen.
Und mein Aug darunter.
Ein Blick: ein Faden mehr, der dich umspinnt.
Dies späte, späte Licht.
Ich weiß: die Fäden glänzen.
Я знаю
И ты, ты тоже..:
окуклилась.
Как и все, что было сложено в ночи.
Это трепетание, крылья вокруг:
Я слышу – я не вижу!
А ты,
как все дневное:
окуклилась.
И глаза, которые ищут тебя.
И мой глаз пониже.
Взгляд: еще одна нить, крутящаяся вокруг тебя.
В этом позднем, позднем свете.
Я знаю: нити сияют.
И ты, ты тоже..:
окуклилась.
Как и все, что было сложено в ночи.
Это трепетание, крылья вокруг:
Я слышу – я не вижу!
А ты,
как все дневное:
окуклилась.
И глаза, которые ищут тебя.
И мой глаз пониже.
Взгляд: еще одна нить, крутящаяся вокруг тебя.
В этом позднем, позднем свете.
Я знаю: нити сияют.
Это довольно раннее стихотворение, с ассоциативностью почти геометрической: окукливание, куколка, веретено, веретено судьбы, сложенные крылья. Сложению, сдаче, противостоит свет: начинают сиять нити, крылья бабочки распахиваются во всё небо, как только появляется зрение. Зрение переключает от движения веретена, окукливания, счета сдачи, к сияющим нитям, возвращающим судьбу к самой себе, к зрелищности каждой из нитей судьбы, так что зрелище само себя поддерживает и хранит в позднем свете состоявшейся любви.
Другое – заглавие-ямб, тоже два строгих слога:
Другое – заглавие-ямб, тоже два строгих слога:
In Eins
Dreizehnter Feber. Im Herzmund
erwachtes Schibboleth. Mit dir,
Peuple
de Paris. No pasarán.
Schäfchen zur Linken: en Abadias,
der Greis aus Huesca, kam mit den Hunden
über das Feld, im Exil
stand weiß eine Wolke
menschlichen Adels, er sprach
uns das Wort in die Hand, das wir brauchten,
es war Hirten-Spanisch, darin,
im Eislicht des Kreuzers “Aurora”:
die Bruderhand, winkend mit der
von den wortgroßen Augen genommenen Binde – Petropolis, der
Unvergessenen Wanderstadt lag
auch dir toskanisch zu Herzen.
Friede den Hütten!
Dreizehnter Feber. Im Herzmund
erwachtes Schibboleth. Mit dir,
Peuple
de Paris. No pasarán.
Schäfchen zur Linken: en Abadias,
der Greis aus Huesca, kam mit den Hunden
über das Feld, im Exil
stand weiß eine Wolke
menschlichen Adels, er sprach
uns das Wort in die Hand, das wir brauchten,
es war Hirten-Spanisch, darin,
im Eislicht des Kreuzers “Aurora”:
die Bruderhand, winkend mit der
von den wortgroßen Augen genommenen Binde – Petropolis, der
Unvergessenen Wanderstadt lag
auch dir toskanisch zu Herzen.
Friede den Hütten!
В одном
Тринадцатое февраля. В устах сердца
пробудился шибболет. С тобой,
Peuple
de Paris. No pasarán.
Овечки налево: Абадиас,
старик из Уэски, пришел с собаками
через поле, в изгнании
стоя белым облаком
человеческого благородства, он сказал
слово, которое нам было нужно,
это была пастушья испанская речь, там
в ледяном свете крейсера «Аврора»:
братская рука, машущая
с глаз величиной со слово
снятой повязкой – Петрополь
Незабвенной город-странников лежал
Тосканской и у тебя в сердце.
Мир хижинам!
Тринадцатое февраля. В устах сердца
пробудился шибболет. С тобой,
Peuple
de Paris. No pasarán.
Овечки налево: Абадиас,
старик из Уэски, пришел с собаками
через поле, в изгнании
стоя белым облаком
человеческого благородства, он сказал
слово, которое нам было нужно,
это была пастушья испанская речь, там
в ледяном свете крейсера «Аврора»:
братская рука, машущая
с глаз величиной со слово
снятой повязкой – Петрополь
Незабвенной город-странников лежал
Тосканской и у тебя в сердце.
Мир хижинам!
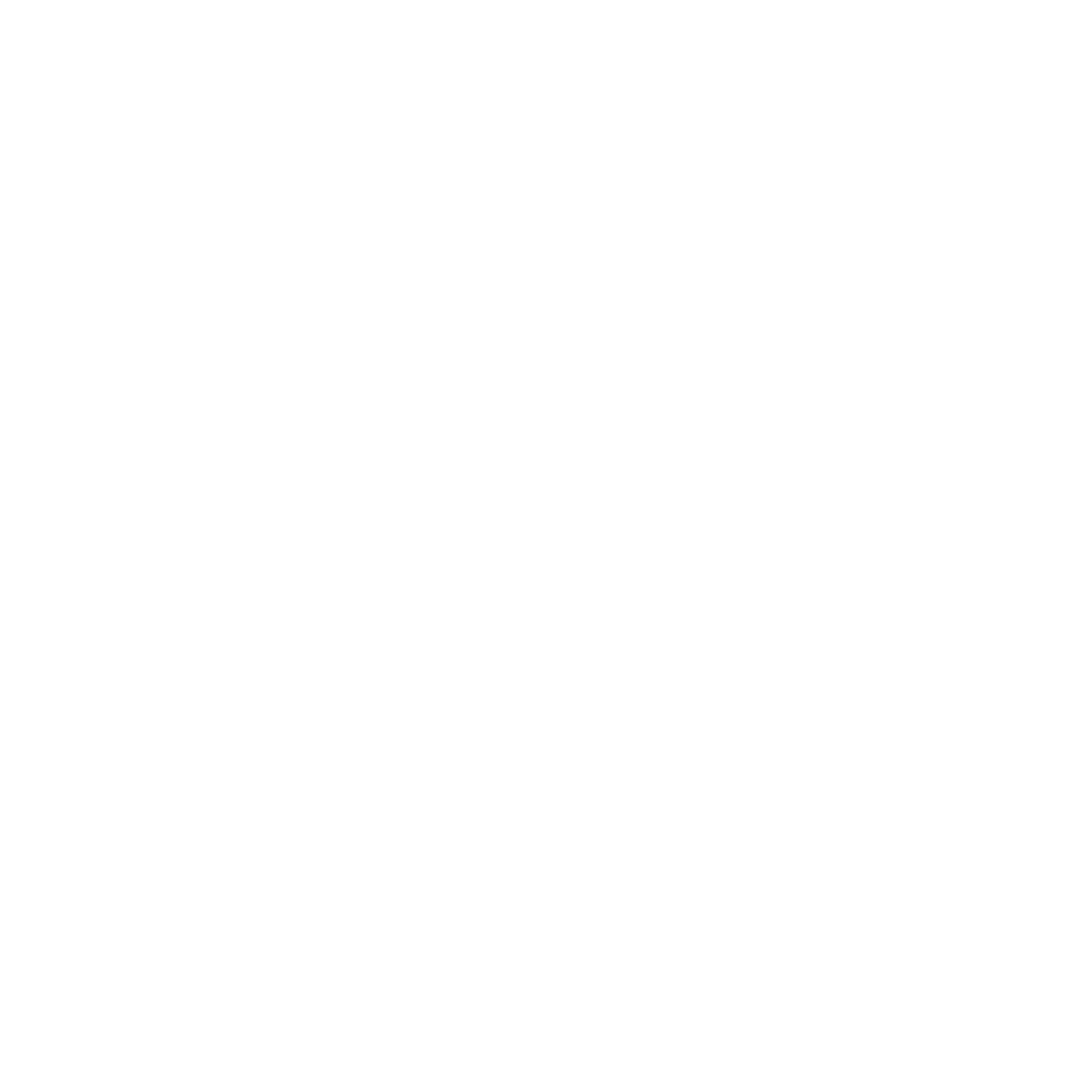
Сделайте предзаказ –
поддержите выход книги о Пауле Целане!
поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других.
Во втором стихотворении понятен шибболет, слово тоска, которое Мандельштам не столько скрывает, сколько открывает в слове Тоскана: тосканской тоской, хотя у Мандельштама «флорентийская била тоска», а в Тоскане холмы. Пастух Абадиас, испанский республиканец, с которым как с мудрецом Целан беседовал, пока жил в Нормандии, прозрачный Петрополь Мандельштама, и 13 февраля 1962 года, демонстрация в Париже против войны в Алжире – вот всё, что нужно знать, чтобы образы стихотворения были прямо здесь, перед нами.
Зашифрован только кинематограф, ледяной свет пленки, который и переключает пастушеский язык от испанского ¡No pasarán! к девизу Французской революции, востребованному в советской России «Мир хижинам, война дворцам!» Режим кинохроники превращает пастушеский язык, то есть язык счета, учета, сбережения и отстаивания прав, в язык воспоминания, когда революция постоянно возвращается к себе, находит саму себя в своей же зрелищности. Революция как любовь для Мандельштама, это несомненно.
Итак, в обоих стихотворениях оптическое, поверхность зрения, различающего свет в первом, и светочувствительная кинопленка, фиксирующая весь свет окружающих событий во втором, не расширяет наш опыт, а переключает к нему. Прежний учет, свернутый, сплетенный, фиксирующий каждого в своей судьбе, разрушается в пользу открытого воспоминания, которое чем чаще сталкивается с собой, тем более становится ярким, ранимым и пронзительным.
Но такой отказ от учета в пользу открытого воспоминания был не только у Мандельштама, но, теоретически проработанный, у о. Павла Флоренского, которого Мандельштам внимательно читал. В Письме «София» трактата «Столп и утверждение Истины» Флоренский объяснял, почему он должен допустить существование принципа Премудрости как необходимого для того, чтобы творение не только реализовывало свои потенции, но и видело эту реализацию, и тем самым осуществляло свою просветленность.
Простая реализация себя оказывается замкнутой, потому что творение ограничено по определению и размыкание реализации через простые творческие акты недостаточно: творческий акт тоже есть реализация потенциала. Творческий акт может усилить текущее языковое выражение творчества, а не само творчество. Поэтому Флоренский вводит понятие о первой, второй и третьей монаде (единице), останавливая язык в несказанных, но живописно представленных монадах. Вторая монада может понять потенциал первой, но только третья способна этот потенциал увидеть: «Не просто данное, стихийное, фактическое единство сплачивает его, но единство осуществляемое вечным актом, подвижное равновесие ипостасей, подобное тому, как при постоянном обмене энергией луче-испускающими телами между ними устанавливается подвижное равновесие энергии – это неподвижное движение и движущийся покой. Любовь вечно “истощает” каждую монаду и вечно “прославляет” ее же, – выводит монаду из себя и устанавливает ее же в себе и для себя. Любовь вечно отнимает, чтобы вечно давать; вечно умерщвляет, чтобы вечно оживлять. Единство в любви есть то, что выводит каждую монаду из состояния чистой потенциальности, т. е, духовного сна, духовной пустоты и безвидной хаотичности, и что, таким образом, дает монаде действительность, актуальность, жизнь и бодрствование. Чисто-субъективное, отъединенное и слепое Я монады для Ты другой монады истощает себя и, чрез это Ты, Я делается чисто-объективным, т. е. доказанным. Воспринимаемое же третьей монадой, как доказывающее себя чрез вторую, Я первой монады в Он третьей обретает себя, как доказанное, т. е. завершает процесс само-доказательства и делается “для себя”, получая вместе с тем свое “о себе”, ибо доказанное Я есть предметно-воспринятое “для другого” этого “о себе”. Из голого и пустого само-тождества – “Я!” – монада становится полным содержания актом, синтетически связывающим Я с Я (Я = Я), т. е. органом единого Существа».
Итак, любовь есть трансгрессия, выход монады за пределы себя и одновременно обретение монадой себя. Монада получает полноту жизни, но сама по себе она субъективна, в одиночку она может только заявить о себе, то есть быть взятой на учет. Вторая монада как раз учитывает этот учет и тем самым постулирует первую монаду как реальность. Тогда как третья монада оказывается оптической, а не учитывающей, она воспринимает сами принципы доказательства, само постоянное возвращение доказательства к самому себе, благодаря чему всякое существование основывается на себе как на самом живом существовании и может осуществиться как настоящее.
София Флоренского и есть тот конструктивный принцип, который содержит в себе оптику, да так, что – совсем неожиданно – текущий зрячий опыт оказывается частью предвечного зрячего опыта. София – это и принцип осуществления, и принцип различения вещей, без которого вещи не помнили бы о себе, – точнее, в них не было бы жизненной памяти, а была бы только механическая память, усиливающая разрыв между неосуществленным и осуществленным. София – это ипостась, личная осуществленность того всего, что всё уже осуществлено предвечно, в некоторой революции до всех вещей и событий, до начала мира. Всё в ней уже готово, наготове, что мир установился и все нити сияют.
София – это не взгляд, встречающийся с другими взглядами, это не перекрестье взглядов. Напротив, и опыт текущего зрения, и опыт предвечного зрения Софии – это направленность взглядов в одну сторону. Это не обмен информацией, а совпадение векторов зрения, благодаря чему и возможно то самое возвращение текущей вспышки к настоящему сиянию, настоящая встреча событий в предвечности и в настоящести увиденного, а не их простой учет. Целан говорит о Софии, для этого ему нужна двойчатка, и говорит он о ней с точностью сияющего слова.
Зашифрован только кинематограф, ледяной свет пленки, который и переключает пастушеский язык от испанского ¡No pasarán! к девизу Французской революции, востребованному в советской России «Мир хижинам, война дворцам!» Режим кинохроники превращает пастушеский язык, то есть язык счета, учета, сбережения и отстаивания прав, в язык воспоминания, когда революция постоянно возвращается к себе, находит саму себя в своей же зрелищности. Революция как любовь для Мандельштама, это несомненно.
Итак, в обоих стихотворениях оптическое, поверхность зрения, различающего свет в первом, и светочувствительная кинопленка, фиксирующая весь свет окружающих событий во втором, не расширяет наш опыт, а переключает к нему. Прежний учет, свернутый, сплетенный, фиксирующий каждого в своей судьбе, разрушается в пользу открытого воспоминания, которое чем чаще сталкивается с собой, тем более становится ярким, ранимым и пронзительным.
Но такой отказ от учета в пользу открытого воспоминания был не только у Мандельштама, но, теоретически проработанный, у о. Павла Флоренского, которого Мандельштам внимательно читал. В Письме «София» трактата «Столп и утверждение Истины» Флоренский объяснял, почему он должен допустить существование принципа Премудрости как необходимого для того, чтобы творение не только реализовывало свои потенции, но и видело эту реализацию, и тем самым осуществляло свою просветленность.
Простая реализация себя оказывается замкнутой, потому что творение ограничено по определению и размыкание реализации через простые творческие акты недостаточно: творческий акт тоже есть реализация потенциала. Творческий акт может усилить текущее языковое выражение творчества, а не само творчество. Поэтому Флоренский вводит понятие о первой, второй и третьей монаде (единице), останавливая язык в несказанных, но живописно представленных монадах. Вторая монада может понять потенциал первой, но только третья способна этот потенциал увидеть: «Не просто данное, стихийное, фактическое единство сплачивает его, но единство осуществляемое вечным актом, подвижное равновесие ипостасей, подобное тому, как при постоянном обмене энергией луче-испускающими телами между ними устанавливается подвижное равновесие энергии – это неподвижное движение и движущийся покой. Любовь вечно “истощает” каждую монаду и вечно “прославляет” ее же, – выводит монаду из себя и устанавливает ее же в себе и для себя. Любовь вечно отнимает, чтобы вечно давать; вечно умерщвляет, чтобы вечно оживлять. Единство в любви есть то, что выводит каждую монаду из состояния чистой потенциальности, т. е, духовного сна, духовной пустоты и безвидной хаотичности, и что, таким образом, дает монаде действительность, актуальность, жизнь и бодрствование. Чисто-субъективное, отъединенное и слепое Я монады для Ты другой монады истощает себя и, чрез это Ты, Я делается чисто-объективным, т. е. доказанным. Воспринимаемое же третьей монадой, как доказывающее себя чрез вторую, Я первой монады в Он третьей обретает себя, как доказанное, т. е. завершает процесс само-доказательства и делается “для себя”, получая вместе с тем свое “о себе”, ибо доказанное Я есть предметно-воспринятое “для другого” этого “о себе”. Из голого и пустого само-тождества – “Я!” – монада становится полным содержания актом, синтетически связывающим Я с Я (Я = Я), т. е. органом единого Существа».
Итак, любовь есть трансгрессия, выход монады за пределы себя и одновременно обретение монадой себя. Монада получает полноту жизни, но сама по себе она субъективна, в одиночку она может только заявить о себе, то есть быть взятой на учет. Вторая монада как раз учитывает этот учет и тем самым постулирует первую монаду как реальность. Тогда как третья монада оказывается оптической, а не учитывающей, она воспринимает сами принципы доказательства, само постоянное возвращение доказательства к самому себе, благодаря чему всякое существование основывается на себе как на самом живом существовании и может осуществиться как настоящее.
София Флоренского и есть тот конструктивный принцип, который содержит в себе оптику, да так, что – совсем неожиданно – текущий зрячий опыт оказывается частью предвечного зрячего опыта. София – это и принцип осуществления, и принцип различения вещей, без которого вещи не помнили бы о себе, – точнее, в них не было бы жизненной памяти, а была бы только механическая память, усиливающая разрыв между неосуществленным и осуществленным. София – это ипостась, личная осуществленность того всего, что всё уже осуществлено предвечно, в некоторой революции до всех вещей и событий, до начала мира. Всё в ней уже готово, наготове, что мир установился и все нити сияют.
София – это не взгляд, встречающийся с другими взглядами, это не перекрестье взглядов. Напротив, и опыт текущего зрения, и опыт предвечного зрения Софии – это направленность взглядов в одну сторону. Это не обмен информацией, а совпадение векторов зрения, благодаря чему и возможно то самое возвращение текущей вспышки к настоящему сиянию, настоящая встреча событий в предвечности и в настоящести увиденного, а не их простой учет. Целан говорит о Софии, для этого ему нужна двойчатка, и говорит он о ней с точностью сияющего слова.
