Подношение Целану
Пауль Целан и Ван Гог:
Кто стоит в миндале
Кто стоит в миндале
Ксения Голубович
Ольге Александровне Седаковой
Пауль Целан не писал на немецком, он – как и многие модернисты – писал поверх языка, то есть поверх немецкого. Не изнутри знакомых словосочетаний, а выслушивая их как бы сверху, когда звук несется к высокой точке, точке схода, подобно тому, как это происходит в здании с хорошей акустикой, а в пределе – в соборе. И там собирается.
Какие звуки собираются в соборе? Мы знаем, что прежде всего – звуки органа. И, конечно, такая сцена вряд ли может принадлежать иудейской традиции. Она принадлежит традиции католической – о чем не забывает нам упомянуть само название стихотворения, о котором пойдет речь: МАНДОРЛА.
Мандорла – это полный нимб миндалевидной формы, в которой обычно помещается фигура Христа.[2] Перед нами – христианская традиция, в которой евреи – чужие. Вернее, так – они в ней изгои. Или вернее, даже так, они в ней очерчены линией одиночества. Собственно, само рассеяние по планете, которое собирает их отдельными группами, традиционно видится как изгнание. Это хор голосов – но одинокий хор внутри чуждого пространства, внутри пространства собора. А хор поет не то же самое, что поет одинокий лирический голос изнутри «я».
Целан в этом отношении удивительно верен – он никогда не покидает этой сцены: евреи на сцене Европы. Евреи внутри готического собора. Евреи внутри предельного одиночества, когда Бог молчит. Удивительно, как редко мы отдаем себе отчет: вся библейская сцена, вся жизнь Христа, почти все – кроме как в финале – ее действующие лица – это все те евреи, что жили «до» рассеяния, которым наследуют эти евреи «после» рассеяния. И эта тонкая грань складывает историю вдвое. Или в постоянную линию движения. Без пристанища, без земли, без языка. Вернее, по граням национальных языков. Такой одинокий хор на гранях языков.
Целан владел шестью языками и выбрал тот, от имени которого убили его семью. Он выбрал немецкий.
Целан мог выбрать «натурализовать» свою травму – и влить ее в землю Израиля, как предлагала ему его друг Нелли Закс, национализировавшая то, что до сего времени было вне-национальным – еврейство и его судьбу, став ведущим национальным поэтом Израиля, пишущим на иврите. Целан этого шага сделать не мог. Нечто навсегда оставляло его на этой сцене, где в странном рассказе смыкаются евреи до и евреи после, по кромке события – истории Европы, в их глубоком, или высоком, одиночестве. Но при этом – он не говорит «я». И его поэзия – идет не от лица «я». Она идет от лица «мы». И в этом он – модернист.
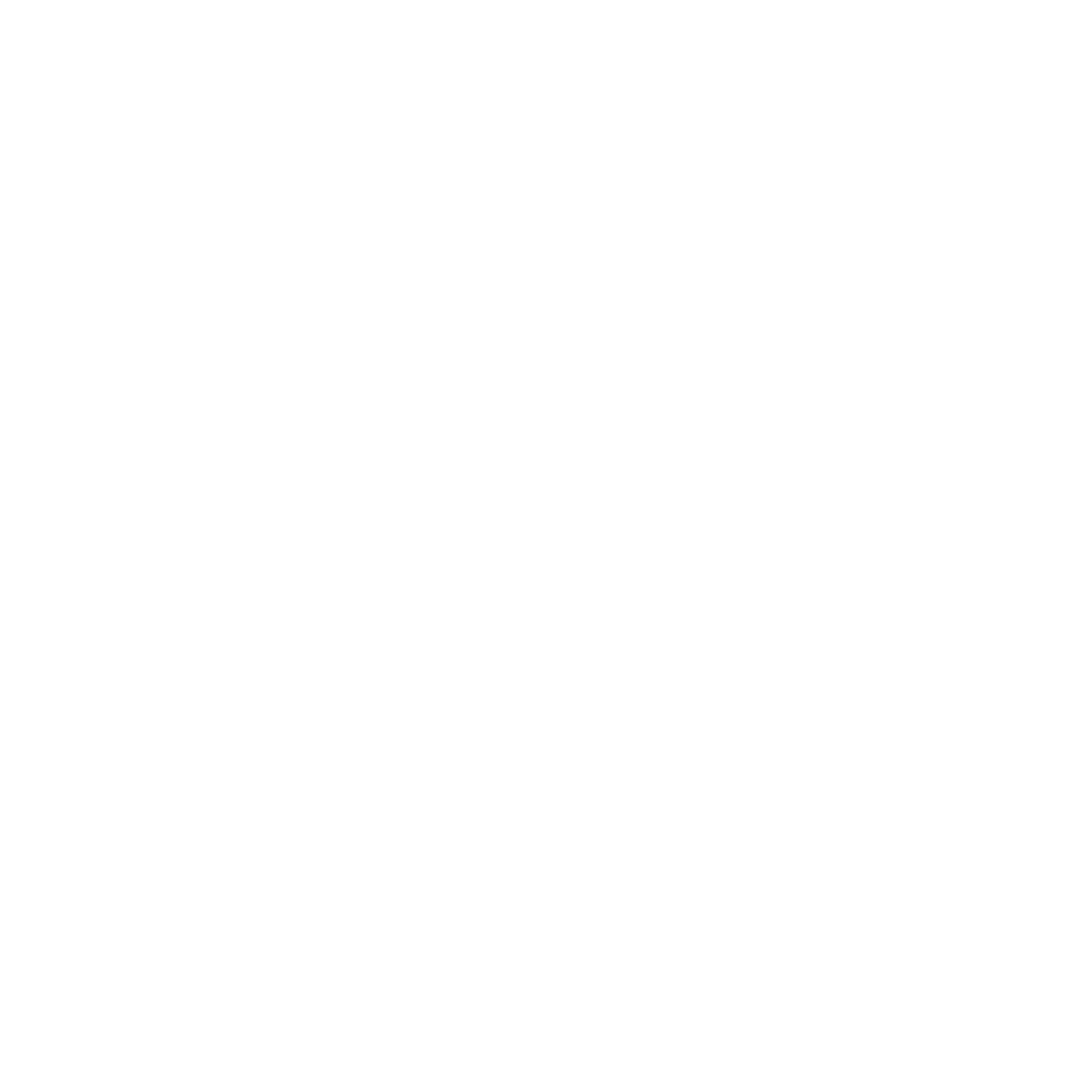
сделайте предзаказ и поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других под одной обложкой.
Это очень важное наблюдение: хоровой характер модернизма. Он сказывается прежде всего в недостаточности «я-высказывания», которое производит фразы «понятные» каждому другому я, понятные индивидуально. Если проследить «хоровое пение», то есть то, что поется всеми вместе, то самый главный вопрос – кому оно поется, кто есть тот, по другую сторону пения, которому поют все вместе. Кто стоит по другую сторону слов? И в этом отношении модернизм работает по двум сужающимся и расширяющимся одновременно кругам – он работает с предельным одиночеством самого хора, который поет тому, кто по другую сторону слов. С этим связана и «непонятность» модернизма, его работа с кромкой слов, с их отзвуком, с их смысловой резонантой – с их «далью», с последним затухающим звуком их вибрации, как об этом говорила Марина Цветаева[3]. Как раз на ее творчестве особенно хорошо виден переход от я-высказывания к высказыванию более хоровому, общему. Но особенно это проявляется ярко у европейских модернистов таких, как Элиот, работавших с «телом языка», чтобы на отзвуках его выходить в последнее высокое пространство, совпадающее с высшей точкой экзистенциального одиночества. Из русских поэтов в этом больше всего преуспел поздний Мандельштам, особенно в своем «Неизвестном солдате» (1937) – исключительном хоровом произведении – от имени одиночества «всех». «Хорошо умирает пехота // И поет хорошо хор ночной…» Целан, как известно, считал Мандельштама родственником и даже пытался это доказать, посвятил ему пронзительные стихи:
В Бресте, где пламя вертелось
и на тигров глазел балаган,
я слышал, как пела ты, бренность,
я видел тебя, Мандельштам.[4]
Поющая бренность, которую Целан выделил в Мандельштаме, возможно, является лучшей метафорой хора человечества в ХХ веке. Хор со стороны бренности. Не тела, не плоти, как соблазняющего артефакта искусства, – что было совсем рядом, в той школе французского письма, в которой обучались все модернисты без исключения, школе Малларме, Бодлера, Рембо, Верлена[5]. Нет – бренность как определение статуса вещества, из которого, в конце концов, в человеке все сделано, вплоть до поющих губ и звучащего голоса, праха, который, как известно, состоит из многого, из различных частиц старого, разного. «Разное», «разнородное» становится самим языком модернизма – даже если вспомнить язык Элиота, сколь из разных регистров состоят его стиховые периоды, как далеко его метод отходит от «я-высказывания», которое прежде всего старается соблюсти стилистическое единство предложения. Разнородность, сопоставление фрагментов, смысл, проскальзывающий между словами, на стыках слов, как бы переключающий стрелки дорожной карты понимания, смысл, за которым мы должны успеть, забирающийся то выше, то ниже, как белка. И тем не менее, речь идет о чем-то последнем и пугающем, о какой-то высшей тревоге: «Сын человеческий, я покажу тебе ужас в горстке пыли[6]», – скажет Элиот.
Все дело в том, что наша бренность, наше брение, сама наша смертность, скажем так, – это и есть то, что нас объединяет. Что делает из разнородного одного, что делает одно из разного. И это самое простое. Не возвышенное, не сверхблагородное. Это не та «старинная смерть», о которой говорит Рильке в «Записках Мальте Лауридса Бригге» (1910), описывая смерть камергера. Нет, это вот эта, сама простая, бедная (по Рильке) или «дешевая» (по Мандельштаму: «Миллионы убитых задешево») смерть, которая – под ногами. Тот самый «хор ночной», который оказывается «пехотой» («Хорошо умирает пехота // И поет хорошо хор ночной»). И она поет во всех нас, она поет нами. Для Целана так поют «евреи» – в отличие от немцев, у которых смерть последняя, благородная, чистая. Не бренная. Не самая малая, выдающая только почти животную, простую природу – того же, из чего сделано все. Итак, бренность, само наше смертное тело, – уже общий хор. И он предельно одинок в этом веке, космически одинок, скажем так. Он поется там, где само тело сжимается от страха. Где само тело прижимается к телу в поисках последнего братства. Или последнего приюта. Это то в нас, что поет по ту сторону нас. По ту сторону слов, которые раскрываются как само разнородное, бренное, не зафиксированное платоновским «эйдосом», «понятием», а как бы промелькивающее, пробегающее по ту сторону слов, еще раз, в собранности в некой высшей над-личной точке, куда устремлено пение разного, пение «праха», пение «земли»… Это сходная задача модернизма – мощь одинокого хора, поющего в ночи Тому, Кто по ту сторону Языка и Бренности. А вот техника каждого поэта будет отличаться. Так, техника Целана будет отлична и от техники Элиота, и от техники Мандельштама. У Элиота – коллаж – дает почувствовать стык, перемену с высокого на низкое, почти чувственное соприкосновение неровных краев слов, а техника «опущенных звеньев» и звуковых дуг между словами у Мандельштама – буквально соприкосновение губ на словах, тот телесный элемент артикуляции, который одновременно совпадает со смыслоизвлечением.
Один из наиболее интересных аналитиков ХХ века, Алан Бадью, говорит об этом веке как о веке, исповедовавшем «страсть к реальному», и это «телесное» место «стыка» у Элиота или «соприкосновение губ» у Мандельштама, дающее смысл, то есть «пение» – лучшая иллюстрация к этому.
А теперь вернемся к «Мандорле». Она в некотором смысле тоже высшая точка. Это нимб миндалевидной формы, в котором обычно изображается Христос, традиционно, например, в сюжете «Преображения». Мандорлу Целан видел в разрушенном католическом храме. И Мандорла была пуста – фигура в ней стерлась - остался только нимб. И, по сути, Целан делает не более, чем описывает почти буквально то, что видит. Он буквально чертит то, что видит, и то, чего не видит. Видит форму «миндаля» или «миндалины», ее цвет, то, что в ней никого нет, но Он есть. И он – Царь. Но Царя Нет.
Это прочерчивание словами отлично от техники стыка и «соприкосновения», что была свойственна Элиоту и Мандельштаму. Целан прочерчивает, прописывает, а лучше сказать – прорезает линиями некий объект. Абсолютно точно говоря, что он видит, он описывает то, чего он не видит, и это невидимое является косноязычной стороной видимого, которая именно в силу своего косноязычия развивает максимально концентрированный в своей напряженности смысл. Этот смысл ощутим, почти как реальность, он ничему не соответствует из предметного мира, а стихотворение является «прорезью», которая предлагает смотреть некий смысловой максимум именно из-за минимума собственных средств. Техника Целана – проведение пальцем некоего надавливающего контура, прикосновение к реальному, и «пение» возникает так же, как возникает оно в инструменте – из этой контурной интенсивности, почти физического надавливания на строку. Перед нами смысл как объект, смысл как начертание, смысл как… куб. Почему куб? Потому что ощутимо чертится по точкам: Миндаль – Ничто – Царь – Глаз. И все они явно уравнены между собою, при этом никто не выше другого. При этом есть «ось» – человеческая прядь, которая как будто отлична, при этом соединяет точки. И эти точки – не на одной плоскости. На одной плоскости они были бы, если бы были частями предложений, сравнений. Но у Целана нет никакой техники «сравнения», он не оставляет объект своего письма в той же плоскости, что и грамматические равенства. И он не разводит точки по полярностям, которые легко образуют двоичные движения, обычно создающие «сферы», как вращение равноудаленных точек сравнения вокруг метафорической оси. Нет здесь и высшей точки, объединяющей равноудаленные, как в треугольной форме. Геометрия Целана – куб. Неподвижный, несовпадающий, равноудаленный, постоянно прибегающий к глаголу «стоит», как к оси прочерчивания – там и ничто стоит, Царь стоит, и глаз стоит напротив ничто (если брать буквальный перевод)… и вмещающий объем концентрированной пустоты, в которой звучит пение.
Мандорла – сама по себе высшая точка бытия, полный нимб на всю фигуру. И при этом она еще означает «Миндалину», поскольку ее название взято действительно от формы ореха миндаля. И Целан играет на этом. По сути, только название выдает нам, что речь идет о чем-то церковном: берется технический термин фрескистов. В самом стихотворении этот высший регистр как бы утрачен: подобно ребусу искомое слово не называется. А вернее заменяется на его «значение». Мандорла, став элементом искусства, вдруг возвращается обратно – не просто в миндалину, а в сам миндаль как в дерево. То есть обратно – туда, откуда миндалина взялась. Этот ход тоже очень важен для ХХ века – реализация «культуры». Если Мандельштам пишет, что не хочет жить на «культурную ренту», то есть на те смыслы, что прилипли, наработались словами в ходе истории литературно-праздного их использования, условных поэтизмов, и требует от слов «работать» прямо здесь и сейчас, по верху своих артикуляций добывая смысл и его оттенки, то есть показывать, как они получают высокое смысловое сияние, на которое претендуют, до которого допрыгивают, дотягиваются, то Целан делает иной ход: он требует «культурное», «условное» показать, что оно значит прямо тут, вернуться в прямое, в то, откуда взято, и показать то, что оно именует, на самом себе, чтобы оно сбылось там же – в данном случае… чтобы мандорла показала себя в миндале, а миндаль – в мандорле.
Миндаль занимает особое место в еврейской традиции. Он не орех. Он близок к сливе, абрикосу, вишне, но если там мы ищем плоти, мякоти плода, – то в миндале съедобна сама сердцевина, собственно семя. Миндаль – это съедобное семя. Миндаль невероятно морозоустойчив, но гибельны для него – морозы во время цветения. В Библии миндаль упоминается среди ценнейших растительных продуктов, наравне с благовониями (Быт 41:17). И поскольку он содержит синильную кислоту, миндаль еще и отрава. Только сладкий миндаль можно брать в пищу. И потому евреи начали культивировать его – это растение, размножаемое «прививками», создаваемое руками евреев, руками Востока. И теперь этот миндаль – в христианском храме, напротив смотрящего глаза еврея. Это его дерево, капризное и стойкое, ставшее символом Бдительности и Верности Бога, то есть незасыпающего взгляда, неотводимого взгляда. Миндаль – символ Израиля, кроме прочего.
И еврей стоит перед миндалем. Миндалиной, где нет семени, нет сердцевины. Там – голубая пустота, как сияющая прорезь, вход. Это – встреча в храме христианской Европы со своим деревом, со своим растением, выходящим из своих рук. Встреча с собой же.
Для еврея он сам – это тоже миндаль, миндалина, спрятанное в Мандорле как элементе христианской фрески.[7] Это «наш» миндаль, или миндалина. И вот тут на этой тонкой грани сочленения прямого и переносного, культурного и агрокультурного, символического и реального протекает вся еврейская сцена, в которую Целан впаян, от которой не может отойти, как от магнита, от живого источника, или как тот, кто ест, от того, что он ест, или как тот, кто смотрит, от того, во что вливается его взгляд, – это взаимопроникновение по контуру соприкосновения и наполнения, которое в итоге сводится к тактильности. Это можно назвать «поэтикой», но это же можно назвать судьбой, причем не только своей, а всех тех, кто сюда вписан – в эту прорезь, в эту подчеркнутую линию-контур, в эту бренность касания. У Целана возникает припев с поминанием «еврейского», а потом «человеческого» локона – ведь, как в любой хоровой песне, у него есть припевы – и структура локона, который вьется завитками, быть может, подходит как нельзя лучше к структуре самой миндалевидной прорези. Ведь «миндаль» – это и изогнутая, как двойной локон, линия мандорлы, и абрис миндалевидных семитских глаз, и абрис рта, и абрис кончиков пальцев.
То, что части тела перемешаны, не должно в этой поэтике нас смущать. Хор – это хор бренности. Там все части равноправны, поют раздельно и вместе. У кого глаз, у кого рука – если такой хор изображать, то не будет отдельно стоящих, как в Греции, залитых солнцем статуй, выстроенных в ряд. Хор не имеет структуры войска или католического хора. Хор имеет структуру тела, собранного в сумрак своим пением, и не очень различенного во множестве образующих его тел.
Так было, пожалуй, лишь на празднествах Диониса, породивших трагедию, театр и наше понимание истории как трагедии, а не эпоса, – но ведь и Дионис пришел с Востока, со стороны миндаля. Но то, что хор – трагичен, что хор – сердце и место действия трагедии, подводит нас к новому учению об истории, которая свершается лишь там, где хор, поющая масса, выходит на сцену. Потому что такой хор несет на себе «куб» пространства, куб присутствия, груз бытия, который не в силу поднять одиночке. Это не вес собственного Я или многих Я. Хор – это вес неба. Куба неба, что давит на землю. И слова человеческого языка, которые приучены все подчинять человеку, разрезаются, распарываются, лопаются – как спелый виноград (ягода Диониса) – под давлением того, что человеку не подчиняется. Эти слова как будто должны быть чем-то съедены или должны лопнуть, как почки, и зацвести поверх самих себя, под давлением того тяжелого смысла, который они описать не могут. Они могут лишь лопаться от него и цвести как бы ошметками прежних смыслов, становящихся лепестками. Цветение деревьев весной – это приближение куба неба.
Поскольку «Миндаль» Целана мигрирует между буквальной формой «миндалины» и «миндалем» как растением, ветвистым полудеревом-полукустом, то, можно сказать, он проходит и сразу удерживает все стадии – от плода и даже корня (кто стоит в миндале – вопрос, подразумевающий не стояние в «миндалине», а стояние внутри дерева, внутри «цветения») до цветка… И более того – всего дерева сразу, причем дерева особенного изысканного: миндаль становится «голубым». Предмет, куб, удерживаемый хором слов, переливается, меняется на глазах. Он сразу – все, и – ничто, как говорит Целан. Это максимальное удержание всего и ничто кончается «голубым», царским миндалем. Как будто сортом миндаля, особым видом.
Тем интереснее тот второй миндаль, о котором мы скажем сегодня, прежде чем перейти снова к миндалю Целана. Это – «Цветущие ветки миндаля» Ван Гога, картина, написанная им в Сен-Реми-де-Прованс в 1890 году. Она является одной из нескольких картин, написанных Ван Гогом в 1888 и 1890 годах в Арле и Сен-Реми, на юге Франции. Этих картин несколько, но на каждой миндаль производит странное впечатление, если не помнить о японских изогнутых сакурах и об интересе к Востоку Ван Гога. А еще если не помнить о таящемся в уголках его разума, или, вернее, его зрения, безмерности безумия, которая что-то другое делает с любым объектом, который берется писать этот удивительный художник. Его подсолнухи накручивают такую глубокую тьму в сердцевине, что напоминают глаз безумца, смотрящий внутренней землею, почти могилой, изнутри свернутого желтого солнца и раскрывающий его в какую-то особую жизнь «желтого», спелого, земного. А его автопортреты, с желтой бородой, пшеничными волосами, напоминают те же самые подсолнухи или пашни, а пашни потом напоминают у него то же самое живое выражение лица, что и автопортреты. И все вещи делаются множеством мазков – несокрытых, извивающихся… как локон. Каждый объект изображения у Ван Гога уже множествен, уже приближен в некой особой интенсивности, в некоем особом почти скульптурном на него давлении, которое расширяет его экстатически. Ван Гог видит не в дымке ностальгии, рефлексии, удаленности, памяти, впечатления, он видит в экстазе, и, таким образом, каждый мазок – участник хора, хора, поющего лицо, поющего подсолнух, поющего старые крестьянские башмаки, которые попытался перепеть Хайдеггер, восстановив по кромке некую надличную речь этого хора.
Хоровая лирика – как показывал еще Михаил Гаспаров – это общее пение, оно происходит в честь неких надличных событий. Экстатическое хоровое пение означает определенный бурлящий котел, из которого индивидуальности отскакивают, вылетают, как брызги. Эк-стаз означает покидание своих рамок – но для каждого. Так покидает «рамки» и мазок у Ван Гога, закручивающий и звезды, и подсолнухи, и тьму внутри ботинок, и красные дуги полей, и спины крестьян, и домовые крыши… Эк-стаз творится из точки неподвижности, он максимально выходит вовне, сливается с тем, во что выходит. Из него рождалась и трагедия – сама драма, выстреливший из хора эк-статический голос одиночки, который вдруг уже отвечал не как он сам и не как часть целого, а как тот, о ком все поют. Например, поют об Агамемноне, и он станет Агамемноном, ответит, как он. Или все поют о миндале, и кто-то станет миндалем, ответит, как миндаль. Ответит, как другой, о ком велась речь. Так и вещи у Ван Гога – отвечают как бы в повороте назад, расцветают навстречу зрителю, как если бы зритель тоже был не одиночка, а тоже был множественным, участником хора, из которого кем-то одним вырвалось это изображение – емкая, тугая связь. Так цветет миндаль у Ван Гога. Он еще очень ранний, он еще весьма похож на японские гравюры, в нем как будто нет той закручивающей спиральной черноты, что создаст «локоны» подсолнухов, полей и звезд дальше, по сути спирали взгляда, смотрящего на нас, поглощающего нас же, извне.
Наоборот, миндаль у Ван Гога, словно сеть, распространившись по картине, сам приближается к нам. И цветение его внутри себя дает видеть только одно – синеву неба. И она тоже движется, заворачивается на зрителя, как в головокружении, лезет ему в глаз, расширяя его, давая почувствовать небо сквозь цветение, по ту сторону цветения, выворачивающееся в глаз через лепестки. Миндаль несет небо, приближает небо и хочется спросить, что же есть небо, что оно так близится?
Что есть зацветающий миндаль, что он так близко несет на себе небо, что буквально, как в трещины и прорези этого цветения, синева становится нашей? Что в этой синеве, кто «стоит в миндале»? Явно кто-то не-видимый, кто в зрачке миндаля, кто смотрит на нас. В историю создания этого полотна входит и то, что нарисовано оно было в честь рождения ребенка в семье, в честь рождения его племянника и тезки, сына его брата Тео и невестки Йоханны, ребенка, которого у самого Ван Гога никогда не будет. Это великое поздравление. И на этой картине ребенка мы не видим.
Младенец – еще не явленный, еще не существующий в цветущем, то есть вывернутом вовне смысле слова, где конкретный смысл, который соблюдает границы предмета и визуальности. Младенец – это то, что располагается по самой кромке начала, по самой кромке выхода из Ничто. Он почти Ничто, особенно – как в случае Ван Гога – младенец не явлен, он – в утробе неба. Его не видно. Он почти не есть – но почти – уже что-то, почти – это размер надежды. И этот же статус младенца дарует ему и нечто иное: он – самое раннее, он – начало, он то, с чего все начинается. А начало – управляет. Младенец в себе «таит» – надо сказать, что именно «таит» стало ведущим словом для перевода Сергея Аверинцева («Глубь, что таит в себе глубь»)[8]. Миндаль нечто «таит». Но «таит» почти омофон «стоит», если читать через «а», и потому тоже присутствует в русском «стоит», и не нуждается в особом показе. Перевод Седаковой прям «как Целан»: В Миндале, что стоит в Миндале?
Слово Царь – как ответ – так же открывает Младенца, как и слово Ничто. Младенец в цветении своего смысла, опять же по контуру самого себя, как нечто все-общее, как то, что являет собой максимальный потенциал, всеобщее начало, – Царь. Это Царь не в аспекте грозности, а в совершенно ином, может быть, даже забытом отношении. В каком? Как управляет Младенец-Царь?
Ничто – Царь – Стоит – Глаз, который «стоит против Царя» (буквально начертательно), а потом, в следующей строчке, рядом с Царем, вместе с ним, а потом внутри всего этого начертания зацветает синева. Синева внутри Миндаля, синева внутри которой не будет седеть еврейский, а затем и вообще человеческий локон. Никто не станет старым, как повторяет рефрен, казалось бы, находящийся на огромном смысловом расстоянии от всего целого. Как связана седина, которой не будет, и итоговый цвет Миндаля, который вдруг расцветает на всем стихотворении сразу? Миндаль зацветает синевой и царем одновременно, это царская синева, синева особого качества, пропитанная эманацией царя. Это очень пронзительное место, которое дает почувствовать то, присутствие чего силой держит внутренний куб стихотворения.
Что не так с этим седым локоном евреев и всех людей тоже? Потому что техника Целана такова, что она легко скользит с «еврея» на «человека», показывая «еврейство» как максимальное состояние человечества как такового, еврейство – один из его представительских хоров, способных, предназначенных к тому, чтобы говорить и петь о человечестве к Тому, Кто сразу по другую сторону его, чье «бремя» оно несет, которым оно обременено в своем брении.
Так вот – почему там не седеют волосы, уже живущих, уже тех, кто пришел в бытие? Потому что они умрут раньше срока, как это можно подумать, зная историю Целана? Но когда Целан мыслит о такой смерти, наоборот, он не говорит о седине, он говорит о пепле – пепельные волосы твои, Суламифь, говорит он в «Фуге смерти», сравнивая их с золотыми косами немецкой Маргариты. Не ранняя смерть причина не-седения. Седина переходит в царский синий. Вот, что с ней случается явно по смысловым контурам, где цвет, который «не состоится» (не будешь седой), получает ответ в цвете, который уже «стоит» перед глазом. Сила младенца «омладенчевает» головы людские, те головы, что несут ее бремя, как бы касаясь их. И в этом омладенчивании – совсем другая идея, чем обретение вечной красоты и юности, переход в разряд богов, что «стоит» в обещаниях древнегреческого искусства. Младенец-царь – это не юный бог. А Миндаль, удерживающий синеву, не переходит в антропоморфную статую кумира. Оставаясь верным традициям Монотеизма, Целан не показывает тот портрет, который рисует прикосновениями. Только цвет. И он коснется всех голов.
В сущности, последний ответ на то, кто стоит в миндале – собственно сам миндаль и стоит, преображенный синевой, миндаль-мандорла, куб синевы, повернувшийся по всем точкам вокруг смысловой оси и удержавший младенца, начало, самое первое, что сделало «всех нас». Омладенчивание – это превращение людей в безусловно любимых. Люди в монотеизме не становятся полубогами, и суть их бессмертия – в том, что их наконец любят, ветви их миндаля касаются их рук, у них есть царский миндаль. Конец стихотворения звучит как славословие и восхищение, вот какой у нас есть миндаль! Вот какой он! Они поют Тому, кого любят, и в то же время сами становятся любимыми.
В миндале как в скинии, как в ковчеге, «стоит любовь». Речь идет о Любви. И любовь – суть хоровой песни. Она в ней стоит как в миндале. И она является основным удерживаемым лучом силы и славы. Непроизнесенным словом.
Обычно любовь = «я» высказывание. Хором о любви не поют. Так кажется. Однако не стоит забывать, что даже великая греческая Сапфо – это поэт-жрец, и пела она Афродите, и умение воспевать Любовь – было частью политики полиса. Ибо личная пронзенностью любовью есть тоже пронизанность общей силой, нас связывающей. И еще почему-то мы забываем, что существует не только любовь одного человека к другому – основа связи и пения, основа «луча любви», но и аккумулятивная любовь Одного ко многим и многих к Одному, которая располагается лучами и сходится в центр – как пейзаж попадает в центр глаза. Это любовь Одного к самому человеческому роду. И любовь человеческого рода к Тому, кто по ту сторону него, и делает его этим родом, то есть любимыми чадами изначально. Тем пением, которое в клетке у каждого. Которое – как показывал на пороге ХХ века Эдмунд Гуссерль – является самой характеристикой нашего сознания, описываемого как «устремленность», «интенциональность», интенсивная устремленность ко всему, которую человечество хотело испытать заново. Поет само наше сознание, его «ночной хор». И если бы мы должны были бы дать его портрет, то весьма возможно это был бы кистевой «многоударный» миндаль Ван Гога, или его подсолнухи – в зависимости от того, какое событие с ним происходит. Мы как хор поем. Можем ли мы слышать свою песню, ту песню, которая лепит нас же, создает нас же как младенцев, ибо только вылепляет и сама является как бы лепетом, первым, простейшим. Младенцы истории, которых кормят манной небесной. И ведут в землю Обетованную, как домой на колени родителя. Тора – сказки и притчи Бога для людей.
Пауль Целан – сын читающий и шепчущий отцу. Винсент Ван Гог – сын, приносящий Ему свои рисунки. И под конец небольшое замечание Мандельштам (Mandelstamm)… это ствол миндаля.[9] Так буквально слово пишется на слове. Любовь на любви.
В Бресте, где пламя вертелось
и на тигров глазел балаган,
я слышал, как пела ты, бренность,
я видел тебя, Мандельштам.[4]
Поющая бренность, которую Целан выделил в Мандельштаме, возможно, является лучшей метафорой хора человечества в ХХ веке. Хор со стороны бренности. Не тела, не плоти, как соблазняющего артефакта искусства, – что было совсем рядом, в той школе французского письма, в которой обучались все модернисты без исключения, школе Малларме, Бодлера, Рембо, Верлена[5]. Нет – бренность как определение статуса вещества, из которого, в конце концов, в человеке все сделано, вплоть до поющих губ и звучащего голоса, праха, который, как известно, состоит из многого, из различных частиц старого, разного. «Разное», «разнородное» становится самим языком модернизма – даже если вспомнить язык Элиота, сколь из разных регистров состоят его стиховые периоды, как далеко его метод отходит от «я-высказывания», которое прежде всего старается соблюсти стилистическое единство предложения. Разнородность, сопоставление фрагментов, смысл, проскальзывающий между словами, на стыках слов, как бы переключающий стрелки дорожной карты понимания, смысл, за которым мы должны успеть, забирающийся то выше, то ниже, как белка. И тем не менее, речь идет о чем-то последнем и пугающем, о какой-то высшей тревоге: «Сын человеческий, я покажу тебе ужас в горстке пыли[6]», – скажет Элиот.
Все дело в том, что наша бренность, наше брение, сама наша смертность, скажем так, – это и есть то, что нас объединяет. Что делает из разнородного одного, что делает одно из разного. И это самое простое. Не возвышенное, не сверхблагородное. Это не та «старинная смерть», о которой говорит Рильке в «Записках Мальте Лауридса Бригге» (1910), описывая смерть камергера. Нет, это вот эта, сама простая, бедная (по Рильке) или «дешевая» (по Мандельштаму: «Миллионы убитых задешево») смерть, которая – под ногами. Тот самый «хор ночной», который оказывается «пехотой» («Хорошо умирает пехота // И поет хорошо хор ночной»). И она поет во всех нас, она поет нами. Для Целана так поют «евреи» – в отличие от немцев, у которых смерть последняя, благородная, чистая. Не бренная. Не самая малая, выдающая только почти животную, простую природу – того же, из чего сделано все. Итак, бренность, само наше смертное тело, – уже общий хор. И он предельно одинок в этом веке, космически одинок, скажем так. Он поется там, где само тело сжимается от страха. Где само тело прижимается к телу в поисках последнего братства. Или последнего приюта. Это то в нас, что поет по ту сторону нас. По ту сторону слов, которые раскрываются как само разнородное, бренное, не зафиксированное платоновским «эйдосом», «понятием», а как бы промелькивающее, пробегающее по ту сторону слов, еще раз, в собранности в некой высшей над-личной точке, куда устремлено пение разного, пение «праха», пение «земли»… Это сходная задача модернизма – мощь одинокого хора, поющего в ночи Тому, Кто по ту сторону Языка и Бренности. А вот техника каждого поэта будет отличаться. Так, техника Целана будет отлична и от техники Элиота, и от техники Мандельштама. У Элиота – коллаж – дает почувствовать стык, перемену с высокого на низкое, почти чувственное соприкосновение неровных краев слов, а техника «опущенных звеньев» и звуковых дуг между словами у Мандельштама – буквально соприкосновение губ на словах, тот телесный элемент артикуляции, который одновременно совпадает со смыслоизвлечением.
Один из наиболее интересных аналитиков ХХ века, Алан Бадью, говорит об этом веке как о веке, исповедовавшем «страсть к реальному», и это «телесное» место «стыка» у Элиота или «соприкосновение губ» у Мандельштама, дающее смысл, то есть «пение» – лучшая иллюстрация к этому.
А теперь вернемся к «Мандорле». Она в некотором смысле тоже высшая точка. Это нимб миндалевидной формы, в котором обычно изображается Христос, традиционно, например, в сюжете «Преображения». Мандорлу Целан видел в разрушенном католическом храме. И Мандорла была пуста – фигура в ней стерлась - остался только нимб. И, по сути, Целан делает не более, чем описывает почти буквально то, что видит. Он буквально чертит то, что видит, и то, чего не видит. Видит форму «миндаля» или «миндалины», ее цвет, то, что в ней никого нет, но Он есть. И он – Царь. Но Царя Нет.
Это прочерчивание словами отлично от техники стыка и «соприкосновения», что была свойственна Элиоту и Мандельштаму. Целан прочерчивает, прописывает, а лучше сказать – прорезает линиями некий объект. Абсолютно точно говоря, что он видит, он описывает то, чего он не видит, и это невидимое является косноязычной стороной видимого, которая именно в силу своего косноязычия развивает максимально концентрированный в своей напряженности смысл. Этот смысл ощутим, почти как реальность, он ничему не соответствует из предметного мира, а стихотворение является «прорезью», которая предлагает смотреть некий смысловой максимум именно из-за минимума собственных средств. Техника Целана – проведение пальцем некоего надавливающего контура, прикосновение к реальному, и «пение» возникает так же, как возникает оно в инструменте – из этой контурной интенсивности, почти физического надавливания на строку. Перед нами смысл как объект, смысл как начертание, смысл как… куб. Почему куб? Потому что ощутимо чертится по точкам: Миндаль – Ничто – Царь – Глаз. И все они явно уравнены между собою, при этом никто не выше другого. При этом есть «ось» – человеческая прядь, которая как будто отлична, при этом соединяет точки. И эти точки – не на одной плоскости. На одной плоскости они были бы, если бы были частями предложений, сравнений. Но у Целана нет никакой техники «сравнения», он не оставляет объект своего письма в той же плоскости, что и грамматические равенства. И он не разводит точки по полярностям, которые легко образуют двоичные движения, обычно создающие «сферы», как вращение равноудаленных точек сравнения вокруг метафорической оси. Нет здесь и высшей точки, объединяющей равноудаленные, как в треугольной форме. Геометрия Целана – куб. Неподвижный, несовпадающий, равноудаленный, постоянно прибегающий к глаголу «стоит», как к оси прочерчивания – там и ничто стоит, Царь стоит, и глаз стоит напротив ничто (если брать буквальный перевод)… и вмещающий объем концентрированной пустоты, в которой звучит пение.
Мандорла – сама по себе высшая точка бытия, полный нимб на всю фигуру. И при этом она еще означает «Миндалину», поскольку ее название взято действительно от формы ореха миндаля. И Целан играет на этом. По сути, только название выдает нам, что речь идет о чем-то церковном: берется технический термин фрескистов. В самом стихотворении этот высший регистр как бы утрачен: подобно ребусу искомое слово не называется. А вернее заменяется на его «значение». Мандорла, став элементом искусства, вдруг возвращается обратно – не просто в миндалину, а в сам миндаль как в дерево. То есть обратно – туда, откуда миндалина взялась. Этот ход тоже очень важен для ХХ века – реализация «культуры». Если Мандельштам пишет, что не хочет жить на «культурную ренту», то есть на те смыслы, что прилипли, наработались словами в ходе истории литературно-праздного их использования, условных поэтизмов, и требует от слов «работать» прямо здесь и сейчас, по верху своих артикуляций добывая смысл и его оттенки, то есть показывать, как они получают высокое смысловое сияние, на которое претендуют, до которого допрыгивают, дотягиваются, то Целан делает иной ход: он требует «культурное», «условное» показать, что оно значит прямо тут, вернуться в прямое, в то, откуда взято, и показать то, что оно именует, на самом себе, чтобы оно сбылось там же – в данном случае… чтобы мандорла показала себя в миндале, а миндаль – в мандорле.
Миндаль занимает особое место в еврейской традиции. Он не орех. Он близок к сливе, абрикосу, вишне, но если там мы ищем плоти, мякоти плода, – то в миндале съедобна сама сердцевина, собственно семя. Миндаль – это съедобное семя. Миндаль невероятно морозоустойчив, но гибельны для него – морозы во время цветения. В Библии миндаль упоминается среди ценнейших растительных продуктов, наравне с благовониями (Быт 41:17). И поскольку он содержит синильную кислоту, миндаль еще и отрава. Только сладкий миндаль можно брать в пищу. И потому евреи начали культивировать его – это растение, размножаемое «прививками», создаваемое руками евреев, руками Востока. И теперь этот миндаль – в христианском храме, напротив смотрящего глаза еврея. Это его дерево, капризное и стойкое, ставшее символом Бдительности и Верности Бога, то есть незасыпающего взгляда, неотводимого взгляда. Миндаль – символ Израиля, кроме прочего.
И еврей стоит перед миндалем. Миндалиной, где нет семени, нет сердцевины. Там – голубая пустота, как сияющая прорезь, вход. Это – встреча в храме христианской Европы со своим деревом, со своим растением, выходящим из своих рук. Встреча с собой же.
Для еврея он сам – это тоже миндаль, миндалина, спрятанное в Мандорле как элементе христианской фрески.[7] Это «наш» миндаль, или миндалина. И вот тут на этой тонкой грани сочленения прямого и переносного, культурного и агрокультурного, символического и реального протекает вся еврейская сцена, в которую Целан впаян, от которой не может отойти, как от магнита, от живого источника, или как тот, кто ест, от того, что он ест, или как тот, кто смотрит, от того, во что вливается его взгляд, – это взаимопроникновение по контуру соприкосновения и наполнения, которое в итоге сводится к тактильности. Это можно назвать «поэтикой», но это же можно назвать судьбой, причем не только своей, а всех тех, кто сюда вписан – в эту прорезь, в эту подчеркнутую линию-контур, в эту бренность касания. У Целана возникает припев с поминанием «еврейского», а потом «человеческого» локона – ведь, как в любой хоровой песне, у него есть припевы – и структура локона, который вьется завитками, быть может, подходит как нельзя лучше к структуре самой миндалевидной прорези. Ведь «миндаль» – это и изогнутая, как двойной локон, линия мандорлы, и абрис миндалевидных семитских глаз, и абрис рта, и абрис кончиков пальцев.
То, что части тела перемешаны, не должно в этой поэтике нас смущать. Хор – это хор бренности. Там все части равноправны, поют раздельно и вместе. У кого глаз, у кого рука – если такой хор изображать, то не будет отдельно стоящих, как в Греции, залитых солнцем статуй, выстроенных в ряд. Хор не имеет структуры войска или католического хора. Хор имеет структуру тела, собранного в сумрак своим пением, и не очень различенного во множестве образующих его тел.
Так было, пожалуй, лишь на празднествах Диониса, породивших трагедию, театр и наше понимание истории как трагедии, а не эпоса, – но ведь и Дионис пришел с Востока, со стороны миндаля. Но то, что хор – трагичен, что хор – сердце и место действия трагедии, подводит нас к новому учению об истории, которая свершается лишь там, где хор, поющая масса, выходит на сцену. Потому что такой хор несет на себе «куб» пространства, куб присутствия, груз бытия, который не в силу поднять одиночке. Это не вес собственного Я или многих Я. Хор – это вес неба. Куба неба, что давит на землю. И слова человеческого языка, которые приучены все подчинять человеку, разрезаются, распарываются, лопаются – как спелый виноград (ягода Диониса) – под давлением того, что человеку не подчиняется. Эти слова как будто должны быть чем-то съедены или должны лопнуть, как почки, и зацвести поверх самих себя, под давлением того тяжелого смысла, который они описать не могут. Они могут лишь лопаться от него и цвести как бы ошметками прежних смыслов, становящихся лепестками. Цветение деревьев весной – это приближение куба неба.
Поскольку «Миндаль» Целана мигрирует между буквальной формой «миндалины» и «миндалем» как растением, ветвистым полудеревом-полукустом, то, можно сказать, он проходит и сразу удерживает все стадии – от плода и даже корня (кто стоит в миндале – вопрос, подразумевающий не стояние в «миндалине», а стояние внутри дерева, внутри «цветения») до цветка… И более того – всего дерева сразу, причем дерева особенного изысканного: миндаль становится «голубым». Предмет, куб, удерживаемый хором слов, переливается, меняется на глазах. Он сразу – все, и – ничто, как говорит Целан. Это максимальное удержание всего и ничто кончается «голубым», царским миндалем. Как будто сортом миндаля, особым видом.
Тем интереснее тот второй миндаль, о котором мы скажем сегодня, прежде чем перейти снова к миндалю Целана. Это – «Цветущие ветки миндаля» Ван Гога, картина, написанная им в Сен-Реми-де-Прованс в 1890 году. Она является одной из нескольких картин, написанных Ван Гогом в 1888 и 1890 годах в Арле и Сен-Реми, на юге Франции. Этих картин несколько, но на каждой миндаль производит странное впечатление, если не помнить о японских изогнутых сакурах и об интересе к Востоку Ван Гога. А еще если не помнить о таящемся в уголках его разума, или, вернее, его зрения, безмерности безумия, которая что-то другое делает с любым объектом, который берется писать этот удивительный художник. Его подсолнухи накручивают такую глубокую тьму в сердцевине, что напоминают глаз безумца, смотрящий внутренней землею, почти могилой, изнутри свернутого желтого солнца и раскрывающий его в какую-то особую жизнь «желтого», спелого, земного. А его автопортреты, с желтой бородой, пшеничными волосами, напоминают те же самые подсолнухи или пашни, а пашни потом напоминают у него то же самое живое выражение лица, что и автопортреты. И все вещи делаются множеством мазков – несокрытых, извивающихся… как локон. Каждый объект изображения у Ван Гога уже множествен, уже приближен в некой особой интенсивности, в некоем особом почти скульптурном на него давлении, которое расширяет его экстатически. Ван Гог видит не в дымке ностальгии, рефлексии, удаленности, памяти, впечатления, он видит в экстазе, и, таким образом, каждый мазок – участник хора, хора, поющего лицо, поющего подсолнух, поющего старые крестьянские башмаки, которые попытался перепеть Хайдеггер, восстановив по кромке некую надличную речь этого хора.
Хоровая лирика – как показывал еще Михаил Гаспаров – это общее пение, оно происходит в честь неких надличных событий. Экстатическое хоровое пение означает определенный бурлящий котел, из которого индивидуальности отскакивают, вылетают, как брызги. Эк-стаз означает покидание своих рамок – но для каждого. Так покидает «рамки» и мазок у Ван Гога, закручивающий и звезды, и подсолнухи, и тьму внутри ботинок, и красные дуги полей, и спины крестьян, и домовые крыши… Эк-стаз творится из точки неподвижности, он максимально выходит вовне, сливается с тем, во что выходит. Из него рождалась и трагедия – сама драма, выстреливший из хора эк-статический голос одиночки, который вдруг уже отвечал не как он сам и не как часть целого, а как тот, о ком все поют. Например, поют об Агамемноне, и он станет Агамемноном, ответит, как он. Или все поют о миндале, и кто-то станет миндалем, ответит, как миндаль. Ответит, как другой, о ком велась речь. Так и вещи у Ван Гога – отвечают как бы в повороте назад, расцветают навстречу зрителю, как если бы зритель тоже был не одиночка, а тоже был множественным, участником хора, из которого кем-то одним вырвалось это изображение – емкая, тугая связь. Так цветет миндаль у Ван Гога. Он еще очень ранний, он еще весьма похож на японские гравюры, в нем как будто нет той закручивающей спиральной черноты, что создаст «локоны» подсолнухов, полей и звезд дальше, по сути спирали взгляда, смотрящего на нас, поглощающего нас же, извне.
Наоборот, миндаль у Ван Гога, словно сеть, распространившись по картине, сам приближается к нам. И цветение его внутри себя дает видеть только одно – синеву неба. И она тоже движется, заворачивается на зрителя, как в головокружении, лезет ему в глаз, расширяя его, давая почувствовать небо сквозь цветение, по ту сторону цветения, выворачивающееся в глаз через лепестки. Миндаль несет небо, приближает небо и хочется спросить, что же есть небо, что оно так близится?
Что есть зацветающий миндаль, что он так близко несет на себе небо, что буквально, как в трещины и прорези этого цветения, синева становится нашей? Что в этой синеве, кто «стоит в миндале»? Явно кто-то не-видимый, кто в зрачке миндаля, кто смотрит на нас. В историю создания этого полотна входит и то, что нарисовано оно было в честь рождения ребенка в семье, в честь рождения его племянника и тезки, сына его брата Тео и невестки Йоханны, ребенка, которого у самого Ван Гога никогда не будет. Это великое поздравление. И на этой картине ребенка мы не видим.
Младенец – еще не явленный, еще не существующий в цветущем, то есть вывернутом вовне смысле слова, где конкретный смысл, который соблюдает границы предмета и визуальности. Младенец – это то, что располагается по самой кромке начала, по самой кромке выхода из Ничто. Он почти Ничто, особенно – как в случае Ван Гога – младенец не явлен, он – в утробе неба. Его не видно. Он почти не есть – но почти – уже что-то, почти – это размер надежды. И этот же статус младенца дарует ему и нечто иное: он – самое раннее, он – начало, он то, с чего все начинается. А начало – управляет. Младенец в себе «таит» – надо сказать, что именно «таит» стало ведущим словом для перевода Сергея Аверинцева («Глубь, что таит в себе глубь»)[8]. Миндаль нечто «таит». Но «таит» почти омофон «стоит», если читать через «а», и потому тоже присутствует в русском «стоит», и не нуждается в особом показе. Перевод Седаковой прям «как Целан»: В Миндале, что стоит в Миндале?
Слово Царь – как ответ – так же открывает Младенца, как и слово Ничто. Младенец в цветении своего смысла, опять же по контуру самого себя, как нечто все-общее, как то, что являет собой максимальный потенциал, всеобщее начало, – Царь. Это Царь не в аспекте грозности, а в совершенно ином, может быть, даже забытом отношении. В каком? Как управляет Младенец-Царь?
Ничто – Царь – Стоит – Глаз, который «стоит против Царя» (буквально начертательно), а потом, в следующей строчке, рядом с Царем, вместе с ним, а потом внутри всего этого начертания зацветает синева. Синева внутри Миндаля, синева внутри которой не будет седеть еврейский, а затем и вообще человеческий локон. Никто не станет старым, как повторяет рефрен, казалось бы, находящийся на огромном смысловом расстоянии от всего целого. Как связана седина, которой не будет, и итоговый цвет Миндаля, который вдруг расцветает на всем стихотворении сразу? Миндаль зацветает синевой и царем одновременно, это царская синева, синева особого качества, пропитанная эманацией царя. Это очень пронзительное место, которое дает почувствовать то, присутствие чего силой держит внутренний куб стихотворения.
Что не так с этим седым локоном евреев и всех людей тоже? Потому что техника Целана такова, что она легко скользит с «еврея» на «человека», показывая «еврейство» как максимальное состояние человечества как такового, еврейство – один из его представительских хоров, способных, предназначенных к тому, чтобы говорить и петь о человечестве к Тому, Кто сразу по другую сторону его, чье «бремя» оно несет, которым оно обременено в своем брении.
Так вот – почему там не седеют волосы, уже живущих, уже тех, кто пришел в бытие? Потому что они умрут раньше срока, как это можно подумать, зная историю Целана? Но когда Целан мыслит о такой смерти, наоборот, он не говорит о седине, он говорит о пепле – пепельные волосы твои, Суламифь, говорит он в «Фуге смерти», сравнивая их с золотыми косами немецкой Маргариты. Не ранняя смерть причина не-седения. Седина переходит в царский синий. Вот, что с ней случается явно по смысловым контурам, где цвет, который «не состоится» (не будешь седой), получает ответ в цвете, который уже «стоит» перед глазом. Сила младенца «омладенчевает» головы людские, те головы, что несут ее бремя, как бы касаясь их. И в этом омладенчивании – совсем другая идея, чем обретение вечной красоты и юности, переход в разряд богов, что «стоит» в обещаниях древнегреческого искусства. Младенец-царь – это не юный бог. А Миндаль, удерживающий синеву, не переходит в антропоморфную статую кумира. Оставаясь верным традициям Монотеизма, Целан не показывает тот портрет, который рисует прикосновениями. Только цвет. И он коснется всех голов.
В сущности, последний ответ на то, кто стоит в миндале – собственно сам миндаль и стоит, преображенный синевой, миндаль-мандорла, куб синевы, повернувшийся по всем точкам вокруг смысловой оси и удержавший младенца, начало, самое первое, что сделало «всех нас». Омладенчивание – это превращение людей в безусловно любимых. Люди в монотеизме не становятся полубогами, и суть их бессмертия – в том, что их наконец любят, ветви их миндаля касаются их рук, у них есть царский миндаль. Конец стихотворения звучит как славословие и восхищение, вот какой у нас есть миндаль! Вот какой он! Они поют Тому, кого любят, и в то же время сами становятся любимыми.
В миндале как в скинии, как в ковчеге, «стоит любовь». Речь идет о Любви. И любовь – суть хоровой песни. Она в ней стоит как в миндале. И она является основным удерживаемым лучом силы и славы. Непроизнесенным словом.
Обычно любовь = «я» высказывание. Хором о любви не поют. Так кажется. Однако не стоит забывать, что даже великая греческая Сапфо – это поэт-жрец, и пела она Афродите, и умение воспевать Любовь – было частью политики полиса. Ибо личная пронзенностью любовью есть тоже пронизанность общей силой, нас связывающей. И еще почему-то мы забываем, что существует не только любовь одного человека к другому – основа связи и пения, основа «луча любви», но и аккумулятивная любовь Одного ко многим и многих к Одному, которая располагается лучами и сходится в центр – как пейзаж попадает в центр глаза. Это любовь Одного к самому человеческому роду. И любовь человеческого рода к Тому, кто по ту сторону него, и делает его этим родом, то есть любимыми чадами изначально. Тем пением, которое в клетке у каждого. Которое – как показывал на пороге ХХ века Эдмунд Гуссерль – является самой характеристикой нашего сознания, описываемого как «устремленность», «интенциональность», интенсивная устремленность ко всему, которую человечество хотело испытать заново. Поет само наше сознание, его «ночной хор». И если бы мы должны были бы дать его портрет, то весьма возможно это был бы кистевой «многоударный» миндаль Ван Гога, или его подсолнухи – в зависимости от того, какое событие с ним происходит. Мы как хор поем. Можем ли мы слышать свою песню, ту песню, которая лепит нас же, создает нас же как младенцев, ибо только вылепляет и сама является как бы лепетом, первым, простейшим. Младенцы истории, которых кормят манной небесной. И ведут в землю Обетованную, как домой на колени родителя. Тора – сказки и притчи Бога для людей.
Пауль Целан – сын читающий и шепчущий отцу. Винсент Ван Гог – сын, приносящий Ему свои рисунки. И под конец небольшое замечание Мандельштам (Mandelstamm)… это ствол миндаля.[9] Так буквально слово пишется на слове. Любовь на любви.
В миндале – что стоит в миндале?
Ничто.
Стоит Ничто в миндале.
Стоит оно там и стоит.
Ничто.
Стоит Ничто в миндале.
Стоит оно там и стоит.
MANDORLA
In der Mandel – was steht in der Mandel?
Das Nichts.
Es steht das Nichts in der Mandel.
Da steht es und steht.
Im Nichts – wer steht da? Der König.
Da steht der König, der König.
Da steht er und steht.
Judenlocke, wirst nicht grau.
Und dein Aug – wohin steht dein Auge?
Dein Aug steht der Mandel entgegen.
Dein Aug, dem Nichts stehts entgegen.
Es steht zum König.
So steht es und steht.
Menschenlocke, wirst nicht grau.
Leere Mandel, königsblau.
In der Mandel – was steht in der Mandel?
Das Nichts.
Es steht das Nichts in der Mandel.
Da steht es und steht.
Im Nichts – wer steht da? Der König.
Da steht der König, der König.
Da steht er und steht.
Judenlocke, wirst nicht grau.
Und dein Aug – wohin steht dein Auge?
Dein Aug steht der Mandel entgegen.
Dein Aug, dem Nichts stehts entgegen.
Es steht zum König.
So steht es und steht.
Menschenlocke, wirst nicht grau.
Leere Mandel, königsblau.
Мандорла
В миндале – что стоит в миндале?
Ничто.
Стоит Ничто в миндале.
Стоит оно там и стоит.
В ничем – кто там стоит?
Там Царь.
Стоит там Царь, Царь.
Стоит он там и стоит.
Еврейская прядь, ты не будешь седой.
А твой взгляд, на что уставлен твой взгляд?
Твой взгляд уставлен на миндаль.
Твой взгляд уставлен на ничто.
Уставлен на Царя.
И так он стоит и стоит.
Людская прядь, ты не будешь седой
Пустой миндаль, царский голубой.
В миндале – что стоит в миндале?
Ничто.
Стоит Ничто в миндале.
Стоит оно там и стоит.
В ничем – кто там стоит?
Там Царь.
Стоит там Царь, Царь.
Стоит он там и стоит.
Еврейская прядь, ты не будешь седой.
А твой взгляд, на что уставлен твой взгляд?
Твой взгляд уставлен на миндаль.
Твой взгляд уставлен на ничто.
Уставлен на Царя.
И так он стоит и стоит.
Людская прядь, ты не будешь седой
Пустой миндаль, царский голубой.
P.S. Из письма Ольги Седаковой:
«И вот что меня поразило! куб неба – я вспомнила старое-старое свое стихотворение, где это сказано (первая строфа). И помню, что, написав это, удивилась: почему куб? откуда?»
«А там еще и
пыль стоит, не окружая никого.
Странно, да?»
Могло ли получиться так, что я почувствовала тот текст, что есть между переводчиком и переводимым, между двумя поэтами в их общем свидетельстве о том, что есть «человек» перед Богом? Стихотворение Ольги Александровны писалось до ее переводов, до ее встречи с Целаном. Я не помнила про Легенду десятую, когда поняла про целановский куб, но у Ольги Александровны он тоже есть, был до меня:
Иаков (Легенда десятая)
Он быстро спал, как тот, кто взял
хороший посох – и идет
сказать о том, как он искал,
и не нашел, и снова ждет;
что он следит, как пыль стоит,
не окружая никого,
что небо, круглое на вид,
не свод, а куб – и он гремит,
и сердце есть внутри него.
Он спал и спал, зажав в руке
едва надкушенный кусок
пространств, гремящих вдалеке,
и тьмы, бегущей на восток.
Другие жили, как поток.
А он не мог сглотнуть глоток
от новостей – и спал, как мог,
спал исчезая, спал в песке,
спал, рассыпаясь, как песок,
– и Бог,
который ждать не мог,
изнемогая падал в нем,
охваченный внезапным сном.
[1] Существует несколько переводов Мандорлы и сравнение их могло бы стать отдельным удовольствием. Но здесь мы берем канонический уже для многих перевод Ольги Седаковой и слегка касаемся раннего перевода Сергея Аверинцева.
[2] «Про мандорлу-нимб – стоит помнить, что нимб изображает «славу», свет и энергию, исходящую от … В мандорле, полном нимбе еще изображают Успение: Христа у ложа Богородицы, держащего на руках младенца – ее душу. У святых нимб только вокруг головы».
[3] Поэт издалека заводит речь // Поэта далеко заводит речь.
[4] Вечер с цирком и крепостью. Пер. О. А. Седаковой
[5] с этим периодом человечества Целан и прощается в стихотворении посвященном Мандельштаму, как прощается он и с трехцветным флагом и со всем уходящим прошлым, которое все становится частью цирка-шапито.
[6] Т.С. Элиот. «Бесплодная земля».
[7]Миндаль – символ Израиля, кроме прочего.
[8] Аверинцев даже не говорит Миндаль – для него идет о Глуби и протягивании линии от Глуби к Голубому цвету, о котором речь ниже.
[9] Это странное совпадение подсказала мне Ольга Александровна Седакова.
[2] «Про мандорлу-нимб – стоит помнить, что нимб изображает «славу», свет и энергию, исходящую от … В мандорле, полном нимбе еще изображают Успение: Христа у ложа Богородицы, держащего на руках младенца – ее душу. У святых нимб только вокруг головы».
[3] Поэт издалека заводит речь // Поэта далеко заводит речь.
[4] Вечер с цирком и крепостью. Пер. О. А. Седаковой
[5] с этим периодом человечества Целан и прощается в стихотворении посвященном Мандельштаму, как прощается он и с трехцветным флагом и со всем уходящим прошлым, которое все становится частью цирка-шапито.
[6] Т.С. Элиот. «Бесплодная земля».
[7]Миндаль – символ Израиля, кроме прочего.
[8] Аверинцев даже не говорит Миндаль – для него идет о Глуби и протягивании линии от Глуби к Голубому цвету, о котором речь ниже.
[9] Это странное совпадение подсказала мне Ольга Александровна Седакова.
Читайте другие эссе из выпуска о Пауле Целане и смотрите курс Ксении Голубович о поэзии Ольги Седаковой
Автор иллюстрации – Елена Кузьмичёва
Автор иллюстрации – Елена Кузьмичёва
