Подношение Целану
О поэтическом слове Мандельштама и Целана
Вячеслав Глазырин
«Стихи некоего воспринимающего и внимательного, обращенного к Являющемуся, выспрашивающего это Являющееся и заговаривающего с ним», – утверждает Пауль Целан о ранних стихотворениях Осипа Мандельштама: 19 марта 1960 года он провел передачу «Поэзия Осипа Мандельштама» для Северо-немецкого радио. Как отмечают составители издания, вышедшего в Ad Marginem: «Текст <радиопередачи> предшествовал написанию речи “Меридиан”, но основные положения поэтики, как ее понимал Целан, в “Меридиане” и в тексте передачи совпадают». Все знают, что «Меридиан» – речь, в которой поэт сформулировал сокровенные мысли о природе поэзии.
Так насколько утверждение Целана действительно о методе раннего Мандельштама? Или это наблюдения о стихотворениях самого Целана? Или – о природе поэзии как таковой? Последнее на первый взгляд кажется самым разумным, вспомним цитату Мандельштама: «То, что верно об одном поэте, верно обо всех. Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики».
В начале радиопередачи упоминается «Камень», его первое издание: «Двадцать стихотворений из сборника “Камень” производят отчуждающе-странное впечатление». Приводятся три стихотворения: «Слух чуткий парус напрягает…», «Как кони медленно ступают…» и «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». Ни одно из этих стихотворений не входит в дебютный сборник – Целан и его радиособеседник говорят о первом «Камне» на примере стихотворений из других изданий – второго и третьего.
Но эти издания отличаются колоссально: 1913 год – 23 стихотворения, 1915 – 67, 1923 – 76! Это все та же книга? Меняется не только объем, но и архитектура сборника: поэт добивается эффекта маятника, качнувшегося от полюса символизма к акмеизму. Л. Г. Кихней, рассуждая о поэтической семантике Мандельштама, отмечает: «Мандельштам, отталкиваясь от символисткой туманной многосмысленности, обновляет поэтическую речь за счет преодоления “тяжести недоброй” будничного слова». По мнению ученого, преображение «бытового слова в поэтическое происходит за счет изменения роли контекста, который, по сути дела, становится организующим фактором в стихотворении». Ученый развивает эту мысль следующим образом: «Именно за счет особого рода структурирования материала происходит контекстное наращивание смысловой энергии слова в стихе, строфе и стихотворении. По сути дела, речь идет не о преодолении сопротивления материала, а об умении использовать новые принципы сочетаемости слов».
Так насколько утверждение Целана действительно о методе раннего Мандельштама? Или это наблюдения о стихотворениях самого Целана? Или – о природе поэзии как таковой? Последнее на первый взгляд кажется самым разумным, вспомним цитату Мандельштама: «То, что верно об одном поэте, верно обо всех. Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики».
В начале радиопередачи упоминается «Камень», его первое издание: «Двадцать стихотворений из сборника “Камень” производят отчуждающе-странное впечатление». Приводятся три стихотворения: «Слух чуткий парус напрягает…», «Как кони медленно ступают…» и «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». Ни одно из этих стихотворений не входит в дебютный сборник – Целан и его радиособеседник говорят о первом «Камне» на примере стихотворений из других изданий – второго и третьего.
Но эти издания отличаются колоссально: 1913 год – 23 стихотворения, 1915 – 67, 1923 – 76! Это все та же книга? Меняется не только объем, но и архитектура сборника: поэт добивается эффекта маятника, качнувшегося от полюса символизма к акмеизму. Л. Г. Кихней, рассуждая о поэтической семантике Мандельштама, отмечает: «Мандельштам, отталкиваясь от символисткой туманной многосмысленности, обновляет поэтическую речь за счет преодоления “тяжести недоброй” будничного слова». По мнению ученого, преображение «бытового слова в поэтическое происходит за счет изменения роли контекста, который, по сути дела, становится организующим фактором в стихотворении». Ученый развивает эту мысль следующим образом: «Именно за счет особого рода структурирования материала происходит контекстное наращивание смысловой энергии слова в стихе, строфе и стихотворении. По сути дела, речь идет не о преодолении сопротивления материала, а об умении использовать новые принципы сочетаемости слов».
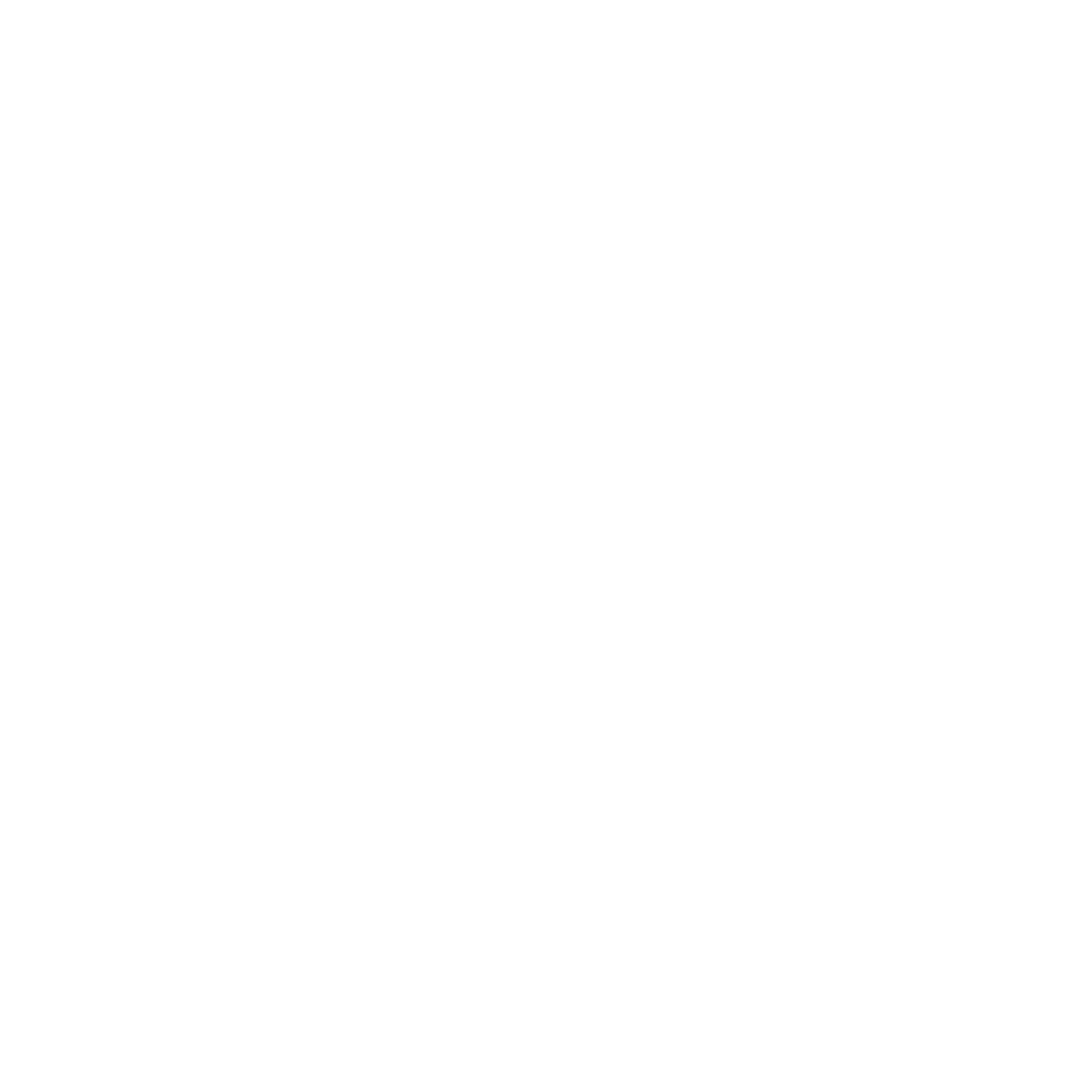
Сделайте предзаказ –
поддержите выход книги о Пауле Целане!
поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других.
Выбор стихотворений, о которых говорит Целан, приятно удивляет: обратиться к «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» – вполне понятный ход, но разглядеть тихую, матовую красоту стихотворения «Как кони медленно ступают» и расслышать в ломающемся юношеском голосе стихотворения «Слух чуткий парус напрягает» голос великого поэта – непростая задача. Составители комментариев в уже упомянутом издании пишут, что Целан отобрал эти стихотворения как наиболее близкие его поэтической картине мира, а также подробно рассказывают, какие акценты он расставил в переводах, поэтому останавливаться на этом не будем. Вернемся к цитате, с которой начали нашу заметку.
Стихотворение как разговор с Являющимся возможно только в том случае, если текст дышит семантикой возможного: создавая открытый текст, поэт смиренно ждет, что на глубинное биение текста, на зов стихотворения грядет Являющееся. И чем кромешней поэтические темноты, чем загадочнее семантические зияния, тем необоримее его появление. Целан знал это как никто другой.
Конечно, Мандельштам расширил семантические возможности поэтического текста, был одним из тех, кто утвердил новый статус слова в русской поэзии – слова поэтического – ищущего, тянущегося к другим словам, глубоко пускающего корни в землю стихотворения, землю мировой поэзии. Но, пожалуй, это утверждение справедливо по отношению к поэту периода «Tristia»:
Что на крыше дождь бормочет, –
это черный шелк горит,
но черемуха услышит
и на дне морском простит.
Или «Воронежских тетрадей»:
Только здесь, на земле, а не на небе,
как в наполненный музыкой дом, –
только их не спугнуть, не изранить бы –
хорошо, если мы доживём…
Когда автор писал те три стихотворения, на которые ссылается Целан, он считал, что нужно победить сопротивление языка: «Тот не рожден строительствовать, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство», – оставлял для слова единственное возможное место в своде храма, который возводил. Молодой Мандельштам меньше доверял слову, он не готов был его отпустить. Удивительно, как Целан смог в ранних стихотворениях Мандельштама увидеть эти потаенные семантические возможности.
Разговор с Являющимся – паузами, зияниями… Семантическими провалами, каждый из которых – обморок тысячелетней памяти. Пауль Целан создавал стихотворения, которые слепой ласточкой сшивали тьму иудейскую и тьму настоящего; и каждая рана – незаживающая.
Стихотворение как разговор с Являющимся возможно только в том случае, если текст дышит семантикой возможного: создавая открытый текст, поэт смиренно ждет, что на глубинное биение текста, на зов стихотворения грядет Являющееся. И чем кромешней поэтические темноты, чем загадочнее семантические зияния, тем необоримее его появление. Целан знал это как никто другой.
Конечно, Мандельштам расширил семантические возможности поэтического текста, был одним из тех, кто утвердил новый статус слова в русской поэзии – слова поэтического – ищущего, тянущегося к другим словам, глубоко пускающего корни в землю стихотворения, землю мировой поэзии. Но, пожалуй, это утверждение справедливо по отношению к поэту периода «Tristia»:
Что на крыше дождь бормочет, –
это черный шелк горит,
но черемуха услышит
и на дне морском простит.
Или «Воронежских тетрадей»:
Только здесь, на земле, а не на небе,
как в наполненный музыкой дом, –
только их не спугнуть, не изранить бы –
хорошо, если мы доживём…
Когда автор писал те три стихотворения, на которые ссылается Целан, он считал, что нужно победить сопротивление языка: «Тот не рожден строительствовать, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство», – оставлял для слова единственное возможное место в своде храма, который возводил. Молодой Мандельштам меньше доверял слову, он не готов был его отпустить. Удивительно, как Целан смог в ранних стихотворениях Мандельштама увидеть эти потаенные семантические возможности.
Разговор с Являющимся – паузами, зияниями… Семантическими провалами, каждый из которых – обморок тысячелетней памяти. Пауль Целан создавал стихотворения, которые слепой ласточкой сшивали тьму иудейскую и тьму настоящего; и каждая рана – незаживающая.
Wie du dich ausstirbst in mir:
noch im letzten
zerschlissenen
Knoten Atems
steckst du mit einem
Splitter
Leben.
noch im letzten
zerschlissenen
Knoten Atems
steckst du mit einem
Splitter
Leben.
Как ты во мне вымираешь:
в последний
истертый
узел дыханья
ты воткнут
с осколком
жизни
Перевод Ольги Седаковой
в последний
истертый
узел дыханья
ты воткнут
с осколком
жизни
Перевод Ольги Седаковой
И Мандельштам, и Целан знали – слово нужно отпустить, но что же отличает их от остальных поэтов, которые работали с пограничной, размытой, диффузной семантикой? Они предельно точно чувствовали границу, после которой семантическая гравитация ослабевает настолько, что текст распадается. Стихотворения Мандельштама и Целана наполнены простором и волей, при этом их тексты остаются жесткой структурой, сложной системой, несущей Весть, которая настолько велика, что ей тесно в рамках семантики бытовой речи, ее примитивных законов. Для серьезного разговора о поэтической семантике Мандельштама и Целана современной лингвистике нужно выйти за рамки трехмерного пространства текста (см. «Судьба и весть Осипа Мандельштама» С. С. Аверинцева): если математика уже осмысляет n-пространства, то и лингвистика непременно придет к этому.
Ольга Седакова, размышляя о поэзии Целана, писала, что «пламенеющий модернизм» остался островом, который культурное человечество благополучно обогнуло, а небывалое напряжение модерна вызывает сегодня у читателя только недоумение. На мой ум, если мы хотим, чтобы современная русская поэзия оставалась частью высокого культурного диалога, чтобы поэт всегда пел «выше возможного», чтобы поэзия была результатом колоссального интеллектуально-духовно-чувственного напряжения, то нам следует учиться мудрому отношению к слову у Мандельштама и Целана.
Ольга Седакова, размышляя о поэзии Целана, писала, что «пламенеющий модернизм» остался островом, который культурное человечество благополучно обогнуло, а небывалое напряжение модерна вызывает сегодня у читателя только недоумение. На мой ум, если мы хотим, чтобы современная русская поэзия оставалась частью высокого культурного диалога, чтобы поэт всегда пел «выше возможного», чтобы поэзия была результатом колоссального интеллектуально-духовно-чувственного напряжения, то нам следует учиться мудрому отношению к слову у Мандельштама и Целана.
