Подношение Целану
Фигура и память
Виктория Файбышенко
Glanz, der nicht trösten will, Glanz.
Die Toten – sie betteln noch, Franz.
Paul Celan. Assisi[1]
В 1959 году критик Гюнтер Блёкер написал рецензию на новую книгу Пауля Целана «Решетка языка»: «Изобильные метафоры Целана никогда не заимствуются у реальности и не служат ей. Обычный пфоэтический образ – то есть лучше понятая, точнее увиденная и чище воспринятая реальность – остается у него исключением. Его образная речь живет собственной милостью. Читатель присутствует при своего рода абиогенезе образов, которые затем соединяются в языковые плоскости. Существенно тут не мировоззрение, а комбинаторика.
Стихи Целана – преимущественно графические фигуры. Вовсе не очевидно, что даже музыкальность может служить адекватной заменой отсутствующего в них чувственного восприятия вещного мира. Правда, автор охотно работает с музыкальными понятиями: вспомним хотя бы весьма прославленную «Фугу смерти» из «Мака и памяти» или, в рецензируемом сборнике, «Стретту». Однако все это напоминает упражнения в контрапункте на нотной бумаге или на обеззвученных клавишах – музыку для глаз, оптические партитуры, которые никогда не обретут полноценного звучания. Редко в этих стихах звук поднимается до того рубежа, где он может принять на себя смыслообразующую функцию.
Целан относится к немецкому языку с большей свободой, чем большинство его коллег по поэтическому цеху. Это, возможно, объясняется его происхождением. Коммуникативный характер языка сдерживает и отягощает его меньше, чем других. Правда, именно по этой причине он часто поддается соблазну действовать в пустоте».[2]
Реакция Целана на эти слова едва не разрушила его дружеские отношения с Ингеборг Бахман. В ответ на ее попытку представить слова Блёкера как привычную глухоту критика к новой и самобытной поэтике он буквально кричит в ответном письме: «Ты также знаешь – точнее, знала когда-то, – что я пытался выразить в «Фуге смерти». Ты знаешь – нет, знала раньше, – а потому должна теперь вспомнить, что «Фуга смерти» для меня, помимо прочего, вот что: надгробная надпись и могила. Кто пишет о «Фуге смерти» так, как написал этот Блёкер, – оскверняет могилы. У моей мамы тоже есть только эта могила».
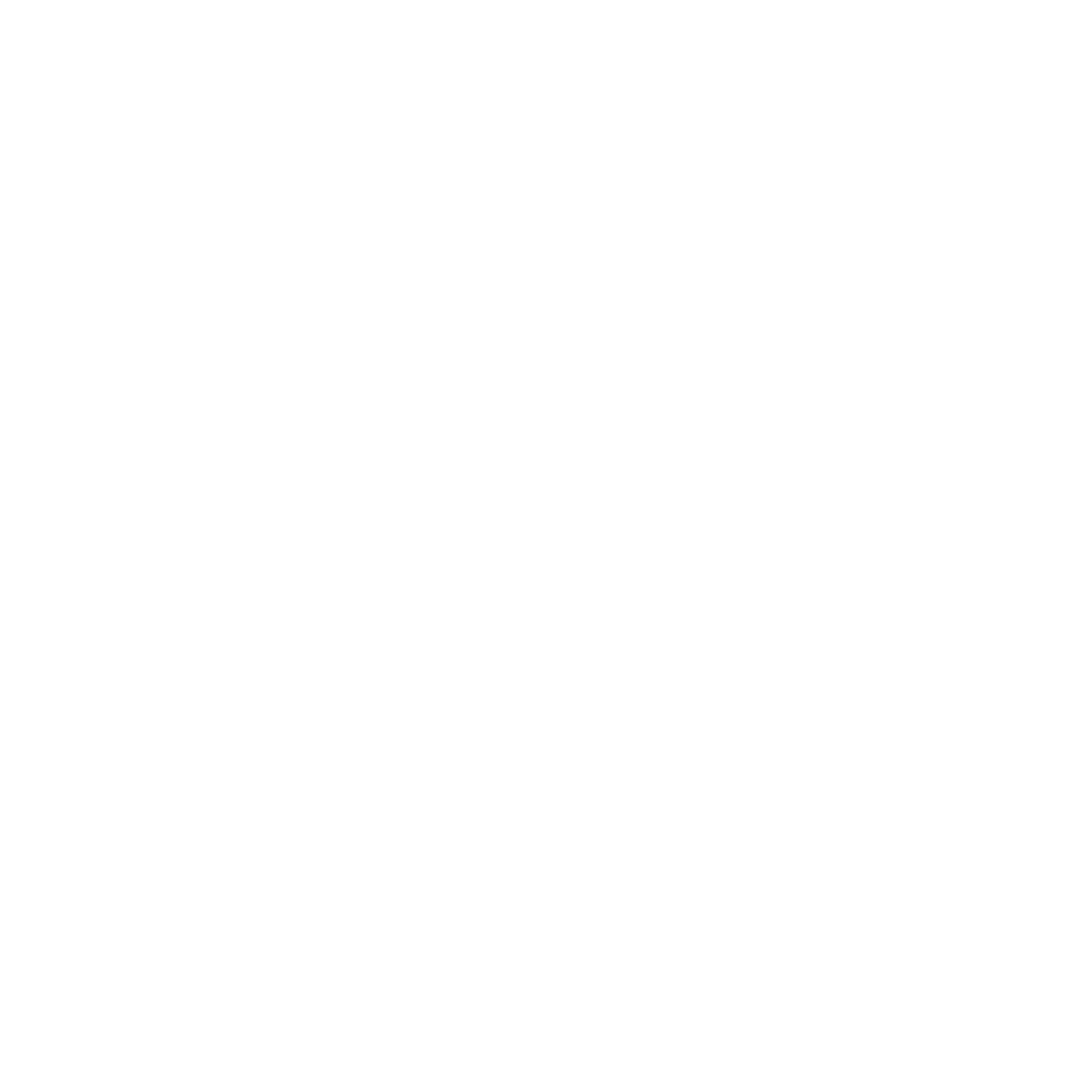
Сделайте предзаказ –
поддержите выход книги о Пауле Целане!
поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других.
Там, где Бахман и ее партнер Макс Фриш, видят перед собой дурной пример критического анализа, Целан видит «гитлеризм, гитлеризм, гитлеризм, те самые фуражки».
В письме в редакцию литературного приложения к газете «Тагесшпигель» Целан с яростным сарказмом присваивает слова Блёкера: «Фуга смерти» – а сегодня я вынужден признаться, что являюсь ее легкомысленным автором – в самом деле представляет собой графическую фигуру, в которой звук не поднимается до того рубежа, где он может принять на себя смыслообразующую функцию. Существенно тут не мировоззрение, а комбинаторика».
Целан как будто не хочет и не может спорить, он хочет еще раз рассмотреть эти жгущие его слова, поставить их перед собой и другими как есть. То немногое, что он добавляет к ним, касается вовсе не поэтики, о которой и только о которой вроде бы судит Блёкер, но предметной отсылки, заключенной в этих «герметичных», «глухих», стихах, не «комбинаторики», но «мировоззрения»: «Освенцим, Треблинка, Терезиенштадт, Маутхаузен, убийства, отравляющие газы: даже там, где мое стихотворение вспоминает о них, получаются лишь упражнения в контрапункте на нотной бумаге».
И дальше, не расставаясь с убийственным чужим словом, он вновь противопоставляет ему только одно свое – память: «Сейчас действительно самое время разоблачить того, кто, хотя и не вполне утратил память, пишет стихотворения по-немецки – это, возможно, объясняется его происхождением».
Целан – поэт памяти, это общеизвестно. И также очевидно, что само устройство стихов Целана менее всего позволяет им быть общепонятным свидетельством и документом исторического обвинения. Это не противоречие, что «решетка языка» также оказывается могилой, а похороны – новой формой поэтической речи.
Блёкер обвиняет Целана в том, что его стихотворение не может быть образом чувственно данной реальности, но одновременно и лучшим образом реальности, чем сама реальность, не может быть ее истолкователем и спасителем; оно проваливается как мимесис, в том числе как парадоксальный мимесис высокого модернизма, по-рильковски возносящего бренность бренного.
Целан отвечает как будто «о другом». Мимесис возможен по отношению к воспоминанию, более того, он в некотором роде и есть воспоминание, пусть даже одновременное вспоминаемому. Но память Целана не вспоминает. Он не говорит с мертвыми из печальной, но неизбежно привилегированной позиции живого. В мире Целана ее просто нет – при том, что мертвые несомненно и ужасающе мертвы. Целан связан с мертвыми необходимостью действия: они что-то делают в мире, и он что-то делает им в ответ. Это что-то трудно описать – может быть, как любое подлинное деяние, не опредмечивающееся в предмете, не позволяющее завершить время совместности.
«Это, возможно, объясняется его происхождением», – не только автора, но и самого стихотворения. Стихотворение не отражает и не выражает, оно действует, претерпевая чужое действие, становясь вот этим местом чужого/своего действия, даже если это место – могила.
Целан начинает «Бременскую речь», соединяя, представляя в единстве главные слова не своих стихов, но своего поэтического мышления: «В нашем языке слова благодарить и думать одного и того же происхождения. Следуя за их смыслом, попадаешь в те области лексических значений, где пребывают помнить и памятовать, благоговение и дар памяти».
О чем говорит поэт? О том, что хочет в нем сказаться. Это значит, что в самом своем истоке поэтическая речь уже есть благодарность, поскольку она отвечает этому желанию (ахматовское «многое еще, наверно, хочет быть воспетым голосом моим»). Этот ответ отвечает не уже заданному вопросу или высказанной реплике другого субъекта, но сам создает возможность для вопроса быть услышанным, для чужого слова – сказанным.
Итак, это чужое требует моего голоса, чтобы состояться? Но состояться в моем голосе как мое высказывание? Или как-то иначе?
Целан не один раз писал, что видит стихотворение как встречу или разговор, но думал ли он: что-то может через него обрести свой голос? Иногда кажется, что речь идет об отношениях по ту сторону сколь угодно близкого разговора. Слова разговора здесь почти ничего не значат, превращаясь в междометия. Чужое оказывается в буквальном смысле ближайшим, частью собственного тела: глаза, голоса, но не перестает при этом быть настолько другим, насколько другим может быть камень или Бог.
Ответ не всегда дан и даже не всегда возможен. Но важно отметить, где находится тот, кто ищет ответа, – ведь его путь одновременно призыв и ощупывание места, в котором может находится другой – утаенный, упрятанный.
Стихотворение оказывается утаенным и раскрытым местом, в котором может быть найдено то, что не имело места. Или те мертвые, которые места не имели, были обращены в не-место.
Это не попытка усыпить мертвых, завершить их пугающее навязчивое присутствие в мире живых и не способ предъявить мертвых на суде истории (человек Целан справедливо хочет этого суда, но поэт Целан все же занят другим). Стихотворение – «графическая фигура» могилы – и есть способ осуществить со-присутствие мертвых и живых.
Целан бунтует против фундаментального положения исключенности мертвых, их пребывания в резервации элегической памяти, культурной памяти, их превращения в дым чистого смысла. Мертвые не вспоминаются в стихотворении, но стихотворение случается как памятник встречи, одновременный ей самой.
Для поэзии двадцатого века дело похорон, древнейшее дело поэзии, вновь оказывается важнейшим. Целан оказывается в той же ситуации, что и другие «последние поэты» модернизма, вовсе не близкие ему в своей поэтике. Мандельштам в «Стихах о неизвестном поэте», Ахматова, Пастернак осуществляют новую службу мертвым, какой не знала поэзия Нового времени.
Служба мертвым происходит в чрезвычайной ситуации: смерть, что настигла этих людей, не завершает, но стирает человеческую жизнь, обращает ее в ничто, делает небывшей. Организованное субъектами истории насилие не оставляет людям даже их прошлого, а, значит, уничтожает возможность воспоминания.
С этим чрезвычайным положением смерти не справляется традиционное оплакивание, или оно не возможно.
Поэту приходится заново изобретать форму перформативного акта, делающего мертвого – мертвым, возвращающего ему развеянную плоть.
Поэт не оплакивает и не воспевает бренность бренного, он пытается возвратить бренность тому, что оказалось предано небытию.
В стихах Целана даже неуязвимые тела обретают уязвимость. Звезда. Миндаль. Прах.
В письме в редакцию литературного приложения к газете «Тагесшпигель» Целан с яростным сарказмом присваивает слова Блёкера: «Фуга смерти» – а сегодня я вынужден признаться, что являюсь ее легкомысленным автором – в самом деле представляет собой графическую фигуру, в которой звук не поднимается до того рубежа, где он может принять на себя смыслообразующую функцию. Существенно тут не мировоззрение, а комбинаторика».
Целан как будто не хочет и не может спорить, он хочет еще раз рассмотреть эти жгущие его слова, поставить их перед собой и другими как есть. То немногое, что он добавляет к ним, касается вовсе не поэтики, о которой и только о которой вроде бы судит Блёкер, но предметной отсылки, заключенной в этих «герметичных», «глухих», стихах, не «комбинаторики», но «мировоззрения»: «Освенцим, Треблинка, Терезиенштадт, Маутхаузен, убийства, отравляющие газы: даже там, где мое стихотворение вспоминает о них, получаются лишь упражнения в контрапункте на нотной бумаге».
И дальше, не расставаясь с убийственным чужим словом, он вновь противопоставляет ему только одно свое – память: «Сейчас действительно самое время разоблачить того, кто, хотя и не вполне утратил память, пишет стихотворения по-немецки – это, возможно, объясняется его происхождением».
Целан – поэт памяти, это общеизвестно. И также очевидно, что само устройство стихов Целана менее всего позволяет им быть общепонятным свидетельством и документом исторического обвинения. Это не противоречие, что «решетка языка» также оказывается могилой, а похороны – новой формой поэтической речи.
Блёкер обвиняет Целана в том, что его стихотворение не может быть образом чувственно данной реальности, но одновременно и лучшим образом реальности, чем сама реальность, не может быть ее истолкователем и спасителем; оно проваливается как мимесис, в том числе как парадоксальный мимесис высокого модернизма, по-рильковски возносящего бренность бренного.
Целан отвечает как будто «о другом». Мимесис возможен по отношению к воспоминанию, более того, он в некотором роде и есть воспоминание, пусть даже одновременное вспоминаемому. Но память Целана не вспоминает. Он не говорит с мертвыми из печальной, но неизбежно привилегированной позиции живого. В мире Целана ее просто нет – при том, что мертвые несомненно и ужасающе мертвы. Целан связан с мертвыми необходимостью действия: они что-то делают в мире, и он что-то делает им в ответ. Это что-то трудно описать – может быть, как любое подлинное деяние, не опредмечивающееся в предмете, не позволяющее завершить время совместности.
«Это, возможно, объясняется его происхождением», – не только автора, но и самого стихотворения. Стихотворение не отражает и не выражает, оно действует, претерпевая чужое действие, становясь вот этим местом чужого/своего действия, даже если это место – могила.
***
Целан начинает «Бременскую речь», соединяя, представляя в единстве главные слова не своих стихов, но своего поэтического мышления: «В нашем языке слова благодарить и думать одного и того же происхождения. Следуя за их смыслом, попадаешь в те области лексических значений, где пребывают помнить и памятовать, благоговение и дар памяти».
О чем говорит поэт? О том, что хочет в нем сказаться. Это значит, что в самом своем истоке поэтическая речь уже есть благодарность, поскольку она отвечает этому желанию (ахматовское «многое еще, наверно, хочет быть воспетым голосом моим»). Этот ответ отвечает не уже заданному вопросу или высказанной реплике другого субъекта, но сам создает возможность для вопроса быть услышанным, для чужого слова – сказанным.
Итак, это чужое требует моего голоса, чтобы состояться? Но состояться в моем голосе как мое высказывание? Или как-то иначе?
Целан не один раз писал, что видит стихотворение как встречу или разговор, но думал ли он: что-то может через него обрести свой голос? Иногда кажется, что речь идет об отношениях по ту сторону сколь угодно близкого разговора. Слова разговора здесь почти ничего не значат, превращаясь в междометия. Чужое оказывается в буквальном смысле ближайшим, частью собственного тела: глаза, голоса, но не перестает при этом быть настолько другим, насколько другим может быть камень или Бог.
Ответ не всегда дан и даже не всегда возможен. Но важно отметить, где находится тот, кто ищет ответа, – ведь его путь одновременно призыв и ощупывание места, в котором может находится другой – утаенный, упрятанный.
Стихотворение оказывается утаенным и раскрытым местом, в котором может быть найдено то, что не имело места. Или те мертвые, которые места не имели, были обращены в не-место.
Это не попытка усыпить мертвых, завершить их пугающее навязчивое присутствие в мире живых и не способ предъявить мертвых на суде истории (человек Целан справедливо хочет этого суда, но поэт Целан все же занят другим). Стихотворение – «графическая фигура» могилы – и есть способ осуществить со-присутствие мертвых и живых.
Целан бунтует против фундаментального положения исключенности мертвых, их пребывания в резервации элегической памяти, культурной памяти, их превращения в дым чистого смысла. Мертвые не вспоминаются в стихотворении, но стихотворение случается как памятник встречи, одновременный ей самой.
Для поэзии двадцатого века дело похорон, древнейшее дело поэзии, вновь оказывается важнейшим. Целан оказывается в той же ситуации, что и другие «последние поэты» модернизма, вовсе не близкие ему в своей поэтике. Мандельштам в «Стихах о неизвестном поэте», Ахматова, Пастернак осуществляют новую службу мертвым, какой не знала поэзия Нового времени.
Служба мертвым происходит в чрезвычайной ситуации: смерть, что настигла этих людей, не завершает, но стирает человеческую жизнь, обращает ее в ничто, делает небывшей. Организованное субъектами истории насилие не оставляет людям даже их прошлого, а, значит, уничтожает возможность воспоминания.
С этим чрезвычайным положением смерти не справляется традиционное оплакивание, или оно не возможно.
Поэту приходится заново изобретать форму перформативного акта, делающего мертвого – мертвым, возвращающего ему развеянную плоть.
Поэт не оплакивает и не воспевает бренность бренного, он пытается возвратить бренность тому, что оказалось предано небытию.
В стихах Целана даже неуязвимые тела обретают уязвимость. Звезда. Миндаль. Прах.
[1] Сиянье, которое утешить не хочет, сиянье.
Мертвые, Франциск, они еще ждут подаянья.
Поль Целан. Ассизи (пер. О. Седаковой)
[2] Здесь и далее цитаты взяты из книги «Время сердца. Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана» в пер. А. Белобратова и Т. Баскаковой. М.: Ad Marginem, 2016.
Мертвые, Франциск, они еще ждут подаянья.
Поль Целан. Ассизи (пер. О. Седаковой)
[2] Здесь и далее цитаты взяты из книги «Время сердца. Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана» в пер. А. Белобратова и Т. Баскаковой. М.: Ad Marginem, 2016.
