Подношение Целану
Целан-Einhorn-Мнацаканова
Владимир Аристов
(о далеких поэтических пересечениях Пауля Целана и Елизаветы Мнацакановой)
В стихотворении Пауля Целана «Шибболет» есть загадочные слова: «Einhorn… komm…» (т.е. «Единорог… приди»). Вначале комментаторы придавали ему символические значения, а у Целана некоторые выражения, названия стихотворений содержат чрезвычайно многозначные понятия, например, «Мандорла», но вскоре было понято, что в приведенных словах есть и биографический шифр: они направлены к другу юности Айнгорну (это не отменяет других символьных ассоциаций и трактовок, но указывает все же на определенный отчетливый луч интенции и памяти).
Поэты Елизавета Мнацаканова и Пауль Целан были географически разделены и никогда не встречались, но у них был общий друг, их «связной» – Эрих Айнгорн.
В настоящем коротком эссе можно лишь наметить тему, задать вопрос о возможности сопоставления столь различных авторов как Целан и Мнацаканова. Такая проблема – в чем-то аналогичная – обозначена в моей статье «Айги-Мнацаканова: скрытое взаимодействие» (НЛО, №2, 2023).
Может быть, есть даже отдаленный отзвук и в их именах (фамилиях): Целан – Мнацаканова. Впрочем, это ведь их псевдонимы, настоящая фамилия его Анчель (Целан – аннаграмма его фамилии по-румынски), а ее Мнацаканян (в Австрии она взяла для некоторых своих произведений имя, подсказанное студентами, с трудом произносившими ее фамилию, Нецкова (Netzkowa) – первые три звука по-русски – почти палиндром от первых трех звуков имени Целан (Celan), и [н] здесь тоже присутствует).
Стоит ли пытаться найти сравнимые тропинки и в их сложных жизненных путях, но, по словам Георгия Гачева, поэт легендарен, и его жизнь, и стихи – едины.
Они были почти ровесниками: он 1920 года рождения, она 1922. Он родился в румынских буковинских Черновицах (в 1940 году после присоединения этой области к Советскому Союзу стал невольно гражданином СССР). Она родилась в Баку, тоже, по сути, на окраине огромного мира, в столь же многоликой, многоязыкой среде. Трагический отсвет геноцида армян накладывал на ее жизнь свой отпечаток. Геноцид евреев стал для него скрытой и явной темой всего его творчества (его родители погибли в концлагере, сам он чудом уцелел во время войны). При этом в 30-е годы они с Эрихом Айнгорном были левых убеждений, стремились в Советскую Россию, и слова-пароли «Эстремадура» или «No passaran!» (они появляются в стихотворении «Шибболет») были для них чрезвычайно значимыми. Айнгорн эвакуировался на восток с началом войны, Целан – остался. В 1947 году они мимолетно встретились, Айнгорн стал военным переводчиком и приехал в Вену как советский офицер, Целан через Будапешт добрался до Вены как свободный поэт. Через много лет Мнацаканова приехала в Вену, когда Целана уже не было в живых.
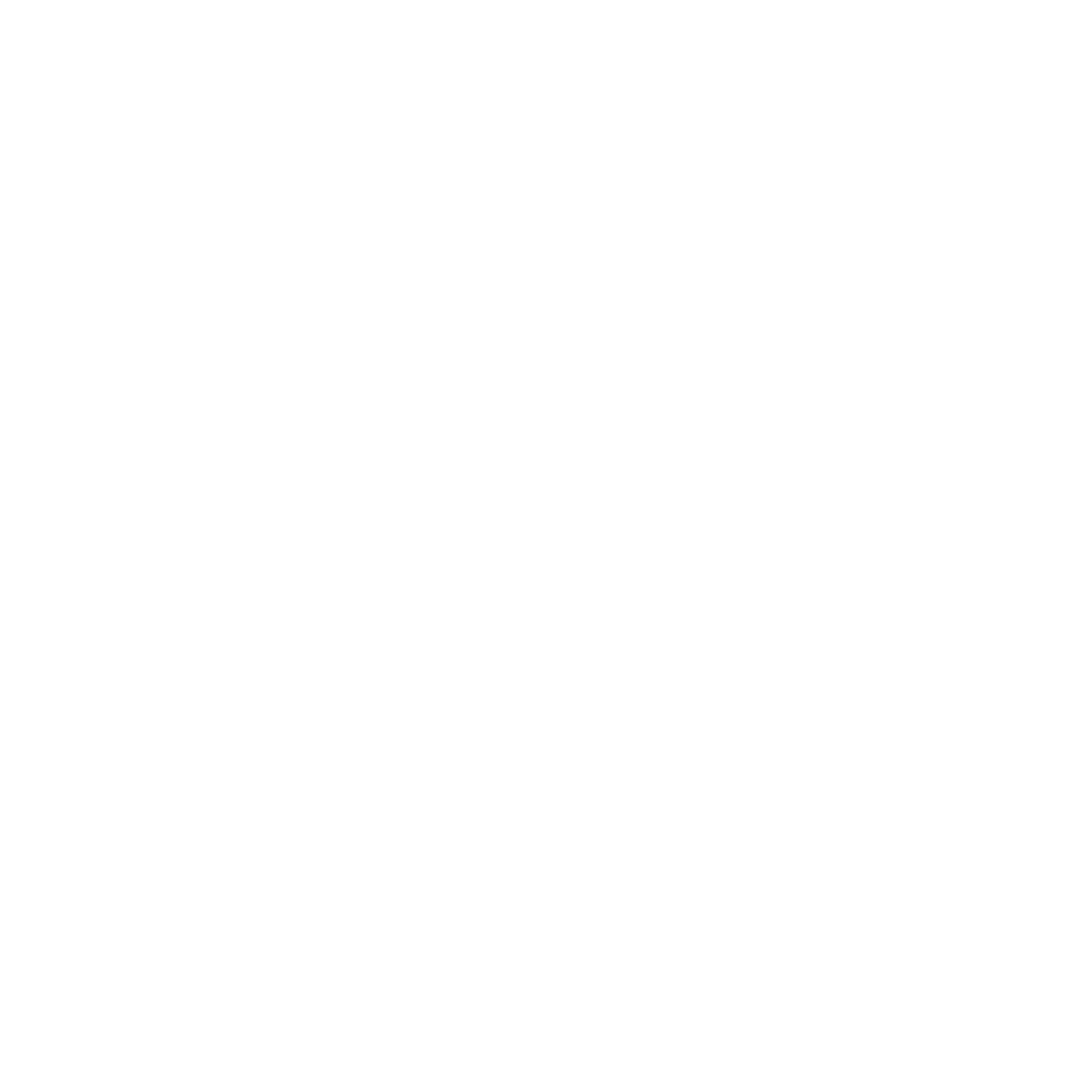
Сделайте предзаказ –
поддержите выход книги о Пауле Целане!
поддержите выход книги о Пауле Целане!
Эссе Ольги Седаковой, Ксении Голубович, Максима Калинина, Виктории Файбышенко, Алексея Порвина и многих других.
Пауль Целан ушел из жизни в 1970 году в 50 лет, примерно в это же время в таком же возрасте Елизавета Мнацаканова ушла из жизни, но, пережив клиническую смерть, вернулась к жизни. И поэзия ее стала иной. Трагический опыт оставил свой след на последующую половину ее века (ведь она прожила почти сто лет).
«Век поэтов» (по Бадью) закончился с уходом Целана, но Мнацаканова сделала некий новый шаг, непредсказанный и почти неопознаваемый ее современниками.
Целан писал о том, что стихотворение – обломок ставшего смертным языка – того языка, который вступил на путь, ведущий в Ничто. Здесь можно услышать перекличку, но и полемику с Малларме, указывавшего в одном из писем, что «после того, как я нашел ничто, я нашел красоту».
Можно ли говорить, что Мнацаканова в своем поэтическом минимализме через музыку отталкивалась от упразднения речи, путем восхождения утверждала Слово, которое в бесконечных возвращениях и повторах претерпевало отрешение от заданности и привязанности смыслов, а искала и находила даже не смыслы, но их формы-ожидания?
Целан много переводил русских поэтов: Блока, Цветаеву, Есенина, Мандельштама (особенно ему близкого); он перевел и несколько стихотворений Хлебникова, находя нечто общее с авангардным поиском. Для Мнацакановой Хлебников был один из центральных поэтов, она буквально претворила его в свой язык, при этом считая себя почти что его антиподом. Но вот слова Целана: «Grandiose Sprachträume Chlebnikovs» («Грандиозные языковые мечтания Хлебникова»). Целан отчеркивал высказывания Хлебникова из его статьи «Наша основа»: «Заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединять людей». И характерная сноска Целана здесь же на цитату из Гёльдерлина: «С тех пор, как словом мы стали…»
При всех несравнимостях, при всех разрывах их путей существовал некий пунктирный диалог, или, скорее, веяние разговора через невозможные рубежи, когда Мнацаканова пересылала свои переводы его стихов Целану через Эриха Айнгорна. Елизавета Аркадьевна говорила мне, как важны были эти встречи для нее в 60-х в доме Айнхорна на Фрунзенской набережной (это было одно из культурных московских мест). Пауль Целан одобрял эти переводы, но издать тогда в Москве их не получилось.
Особая тема для исследования: понять характер скрытого диалога одного большого поэта с другим через перевод на свой поэтический язык, фактически с немецкого на русский. Для Целана немецкий был родным, для Мнацакановой «почти родным»: она изучала его с детства, а переехав в Вену, владела им свободно, он вошел и в ее стихи. Переводы Мнацакановой из Целана удалось опубликовать лишь после отъезда ее из страны в 1975 году, стихи эти вошли в ее том «Из австрийской поэзии».
Можно отметить лишь одну деталь: в ее переводе слово «каштаны» (в оригинале немецкое «Kastanien») было заменено, превратилось в «платаны», и такая «вольность» видится необычайно выразительной. За вершинами этих деревьев открываются какие-то ночные, но светлые дали, каштаны Буковины отозвались в ней, вероятно, платанами ее родного Баку, и мир предстал сразу совмещенным в двух далеких, не встретившихся, но все же в чем-то родных взглядах.
«Век поэтов» (по Бадью) закончился с уходом Целана, но Мнацаканова сделала некий новый шаг, непредсказанный и почти неопознаваемый ее современниками.
Целан писал о том, что стихотворение – обломок ставшего смертным языка – того языка, который вступил на путь, ведущий в Ничто. Здесь можно услышать перекличку, но и полемику с Малларме, указывавшего в одном из писем, что «после того, как я нашел ничто, я нашел красоту».
Можно ли говорить, что Мнацаканова в своем поэтическом минимализме через музыку отталкивалась от упразднения речи, путем восхождения утверждала Слово, которое в бесконечных возвращениях и повторах претерпевало отрешение от заданности и привязанности смыслов, а искала и находила даже не смыслы, но их формы-ожидания?
Целан много переводил русских поэтов: Блока, Цветаеву, Есенина, Мандельштама (особенно ему близкого); он перевел и несколько стихотворений Хлебникова, находя нечто общее с авангардным поиском. Для Мнацакановой Хлебников был один из центральных поэтов, она буквально претворила его в свой язык, при этом считая себя почти что его антиподом. Но вот слова Целана: «Grandiose Sprachträume Chlebnikovs» («Грандиозные языковые мечтания Хлебникова»). Целан отчеркивал высказывания Хлебникова из его статьи «Наша основа»: «Заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединять людей». И характерная сноска Целана здесь же на цитату из Гёльдерлина: «С тех пор, как словом мы стали…»
При всех несравнимостях, при всех разрывах их путей существовал некий пунктирный диалог, или, скорее, веяние разговора через невозможные рубежи, когда Мнацаканова пересылала свои переводы его стихов Целану через Эриха Айнгорна. Елизавета Аркадьевна говорила мне, как важны были эти встречи для нее в 60-х в доме Айнхорна на Фрунзенской набережной (это было одно из культурных московских мест). Пауль Целан одобрял эти переводы, но издать тогда в Москве их не получилось.
Особая тема для исследования: понять характер скрытого диалога одного большого поэта с другим через перевод на свой поэтический язык, фактически с немецкого на русский. Для Целана немецкий был родным, для Мнацакановой «почти родным»: она изучала его с детства, а переехав в Вену, владела им свободно, он вошел и в ее стихи. Переводы Мнацакановой из Целана удалось опубликовать лишь после отъезда ее из страны в 1975 году, стихи эти вошли в ее том «Из австрийской поэзии».
Можно отметить лишь одну деталь: в ее переводе слово «каштаны» (в оригинале немецкое «Kastanien») было заменено, превратилось в «платаны», и такая «вольность» видится необычайно выразительной. За вершинами этих деревьев открываются какие-то ночные, но светлые дали, каштаны Буковины отозвались в ней, вероятно, платанами ее родного Баку, и мир предстал сразу совмещенным в двух далеких, не встретившихся, но все же в чем-то родных взглядах.
