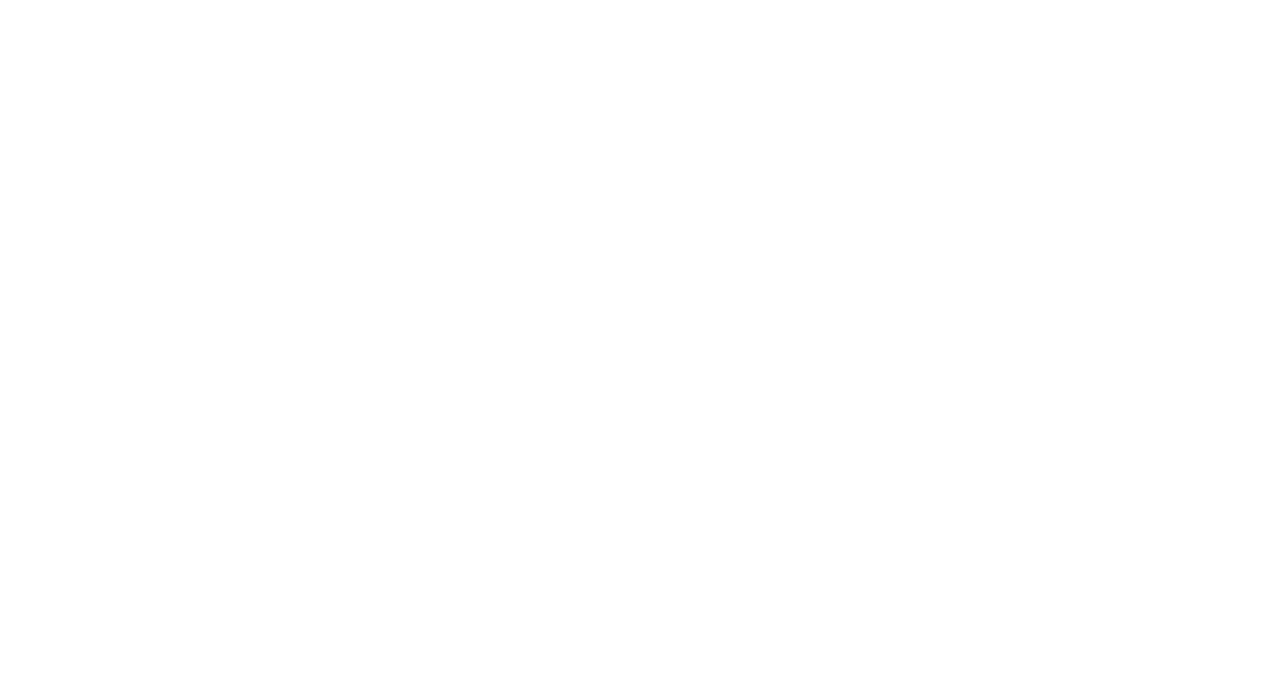эссе
Россыпь точек кипения:
об одной книге Льва Оборина
Алексей Порвин
Книга Льва Оборина «Ледники», вышедшая в 2023 году в издательстве Jaromir Hladik Press, – не столько поэтический сборник, сколько текстуальная машина, разбитая на две несимметричные, но ритмически сцепленные части, функционирующая в режиме эпистемологического коллапса. Первая часть – стихи 2019-2022 годов – артикулирует еще устойчивую, хотя уже напряжённую субъектную позицию: поэт работает с языком как с орудием миростроительства, пользуясь им в духе позднего модернизма, где речь всё ещё может служить обозначением и миметически воспроизводить реальность. Вторая часть, написанная после февраля 2022 года, запускает процесс тектонического сдвига: лирическое «я» вступает в фазу кризиса референции, и язык, утративший функцию инструмента, становится симптомом – он несёт на себе следы насилия, фрагментации, он сам становится следствием исторического события, в котором изломанность и дисфункция уже не метафора, а форма существования.
Травма (именно с большой буквы, как в психоаналитическом и культурологическом словаре), являющаяся трансцендентным пунктом отсчёта для новой поэтики Оборина, структурирует речь по модели посткатастрофического дискурса: размывание интонационного ядра, возможно, намекает на попытку подрыва самой возможности интонации как таковой. Феноменология боли – или даже гиперболи – вытесняет привычную диахронию и на её место возводит структуру, насыщенную симптоматикой постпамяти и метафорической перегрузкой.
Ледники – quasi-архетип, функция в нарративной матрице текста – действуют как постсимволические конструкции, находящиеся в латентном конфликте с человеком и всем человеческим как производителями смысла. Их онтологическая холодность и неподвижность – не просто антиномия теплу и движению, а симптом глубинного семиозиса, в котором человеческое вытесняется нечеловеческим, а затем и античеловеческим. Первоначально обитая в регистре метафорического (или даже в топосе условного «сакрального»), эти ледяные массы проявляют себя как агенты Нарушения, вторжения Реального (в лакановском смысле) в ткань текста. С их появлением прежняя структура, основанная на квазикаузальной логике и допущении референциального порядка, рушится, обнажая хаос как имманентную природу реальности и любых высказываний о ней.
В этом кажущемся распаде возникает парадоксальная когерентность – почти как в гипертекстуальной системе, где порядок больше не навязан сверху, но рождается из множества микро-гештальтов, из игры бинарных оппозиций: «тёплое/холодное», «движущееся/застывшее», «человеческое/нечеловеческое». Эта структура, как и всё качественное постмодернистское письмо, больше не говорит напрямую, а предлагает читателю – но не текст, а интерфейс – пространство для взаимодействия с обломками смысла:
Вопреки всем прогнозам, ледники наступали
ледники всем прогнозам
тянулись, как мои руки, и несли в себе кости
между всякими пальцами немудрёные фьорды
кости бумеров поставляются
в индивидуальных пластиковых упаковках…
Однако в типично энтропийной манере картинка начинает плавиться, плыть, соскальзывать в параноидальный пиксельный туман, поэтический дискурс стремительно смещается от абстрактных медитаций (неопределённо-онтологических, почти академически-безопасных) к лобовому столкновению с тем, что Адорно мог бы назвать абсолютной отрицательностью – но уже без надежды на эстетику как на убежище. Историческая ситуация здесь – не фон, не контекст, а та самая темпоральная червоточина, через которую субъект вываливается из привычного координатного пространства языка и натыкается на хаос, где референты сломаны, знаки бегут сами от себя, а деконструкция давно не в ходу, потому что всё уже деконструировано до основания, включая саму возможность деконструкции.
В этой языковой пустыне, усеянной обломками денотативного порядка, смысл предстает не как нечто данное или создаваемое, а как вирусная гипотеза – возможно, случайная, возможно, иллюзорная, но необходимая для выживания сознания в условиях тотального прагматического сбоя, когда пространства – физические, цифровые, когнитивные – оказались инфицированы насилием.
В поэтическую речь то и дело врывается репрезентативный мусор, но не как случайный фон, а как содержательная структура новой реальности: поисковые запросы, сшитые в полусвязный поток сознания, становятся пост-лирическим дезинтеграционным потоком с примесью TikTok-склейки и маргинальных уголков интернета.
Машина языка, утратив тормоза синтаксиса, начинает издавать звуки, всё больше походящие на «нечто среднее между / ангельским пением и неисправной электропилой». Это уже больше, чем метафора: это онтологический взрыв, всколыхнувший пространство и время до такой степени, что сквозь прежние слои проступает незнакомый мир, где каждый звук – это не сообщение, а сигнал тревоги в условиях разрушения структур означивания.
Смысл – если он вообще возможен – должен быть не открыт, но хакнут, выломан из системы, возникнув, как backdoor в пост-историческую логику, где всё ещё мерцает надежда, но мерцание это неизбежно совпадает с когнитивным ритмом в условиях исторической воронки, затягивающей в свои разрушительные вращения:
что ты узнаешь скоро:
что пол — это лава,
что времени больше не будет,
что запасных деталей
для сезонного существа
не предусмотрено
В кризисном хронотопе, где всякая стабильная онтология уже давно утонула в кислотном дожде симулякров и фрагментов, поэт обнаруживает своё «я» не как субстанцию, а как гибридную, текучую процедуру становления – модульную и реверсивную, встроенную в контекст аффективного взаимодействия. Субъект здесь – не автономная инстанция сознания, а исполненный отрешенного безразличия event-based entity, актуализирующийся в актах боли, саморазрыва и лингвистического переформатирования:
тысячами глаз безразлично
отображаю что просишь, с каждым
движением порождаю это на новом месте,
мне всё равно…
Отдельное стихотворение превращается в перформативную лабораторию, где «я» не столько говорит, сколько преломляется через ритуалы пластичности, транслируя через метафору изменения вещественного – от глины до кожи, от папируса до бумаги – язык, в котором материальность тела и материальность текста совпадают в точке предельного износа:
отвердею для тебя: глина
вывернусь для тебя: кожа
соберу, склею себя
для тебя: папирус
изменю вес, потеряю форму
выбелю лицо, буду стлаться
и резать себя на части
для тебя: бумага…
Это – «Пятый ледник», один из ключевых текстов книги, помогающий понять сдвиг в поэтике Оборина. Перед нами – не манифест, но апофатическая телесная поэтика, в которой субъект не заявляет о себе, но трансформируется и разрушается, становясь не местом речи, а медиа-носителем, объектом перезаписи. Каждая строка апеллирует к хрупкому архиву идентичности, начертанному на глубоко уязвимом материале культуры, повреждённом воздействием насилия.
«Я» утрачивает опору в постоянстве: оно не пред-дано, а выставлено, высказано, вылеплено из семиотической и телесной дрожи. Личность становится постструктурным артефактом, множественным, фрагментированным, переписываемым – тело как поверхность письма, кожа как палимпсест.
Так, «бумага» – это и стадия метаморфозы, и аллегория, и вектор уязвимости, тонкая поверхность, по которой культура пишет, переписывает, стирает написанное, которую культура режет, оставляя лишь след – след катастрофы, след любви, след языка.
Здесь граница между телом и сознанием исчезает, как чернила древней рукописи под сканирующими лучами постструктуралистской диагностики. В этом поэтическом ландшафте, полном шумов, побочных эффектов и семиотических багов, субъект не то чтобы говорит, он становится сказуемым, проявляясь как вереница метаморфоз: глина, кожа, папирус, бумага – каждая стадия есть онтологическая модальность, топология становления, где «я» – не сущность, а процесс, не вещь, а машина желаний, хаотическая, самособирающаяся и самоуничтожающаяся.
Поэт здесь – не личность, а скорее текстуальный оператор, интерфейс, через который проходит поток смыслов, травм, (чужих?) желаний. Он вступает в открытую деконструкцию собственного «я», запуская создание множественного субъекта – без излишней, как может показаться, драматизации, ведь это – культурно-философская необходимость в эпоху, когда идентичность больше не базируется на некоем фундаменте, а дрейфует в океане симулякров.
Эта множественность – не признак разрушения, а режим существования в постмодернистском регистре, где фиксированное «я» – это иллюзия, последовательно разоблачаемая оптикой письма. «Я» поэта – это постоянно переписываемый палимпсест, тело как живой текст, способный к бесконечной редактуре, перезаписи, монтажу.
В «Пятом леднике» множественность субъекта – это не столько проекция внутренней шизоморфной динамики сознания, сколько отражение поля медиальной экзистенции. Здесь субъект не устойчив, он колеблется между фигурами наблюдающего, переживающего и исчезающего, постоянно сбивается в лиминальных зонах между языком и реальностью.
Перелом происходит на участке текста, где вербальная ткань разрушается повтором, напоминающим сбой в потоке передачи данных: лихорадка связь лихорадка. Это – не столько риторический жест, сколько момент дестабилизации, в котором схлопывается дискурсивная целостность субъекта. В текст вторгается безличный протокол наблюдения – своего рода алгоритмический свидетель, встроенный в ландшафт цифровой феноменологии, где уже говорит не субъект, но система. Этот голос – не только внутренний, но и внешний, системный, квазимеханический: голос инфраструктуры, как сказал бы Беньямин, одержимой собственным Jetztzeit.
Именно в этом сегменте появляется сдвиг от фигуры «ты» – субъекта, оставленного в пространстве, будто бы лишенном прежних связей и проживающем утрату мифа о едином «Я», – к новой форме медиального присутствия. Здесь бумага (традиционный медиум письма, носитель феноменологического следа) уступает своё место «аргусу люминофора» – фантомной сущности светящегося экрана, уже не отражающей, но продуцирующей реальность. Это – ЖК-дисплей как аллюзия на всевидящего техно-Аргуса, субъекта, фрагментированного на множество пикселей, каждый из которых является оптико-информационным глазом, взглядом в триллионах шестиконечных линз. Этот дисплей – возможно, и семиотическая решётка, и особая (кибернетическая?) топика зрения, каждый пиксель которой – зрячий и одновременно создающий картинку – это точка кипения, locus предельного аффекта.
Возможно, субъект здесь – не точка отсчёта, а рассеянный эффект наблюдения, множественность телесно-технических интерфейсов, собранных в постструктуралистскую машину взгляда, где дизъюнктивные синтезы производят не смысл, но жар, умножаемый параллельными линиями желаний. В этих пиксельных точках кипения не субъект находит опыт, а опыт – испаряет субъекта. Здесь заявлена новая для Оборина онтология зрения: зрение как катаболизм, как репликация травмы – взгляд, от которого расплавляется граница между органическим и алгоритмическим. И всё это – под холодным шорохом ледников, несущих с собой не просто температуру, а модальность – модальность безжизненности, того, что вне языка, вне дискурса, вне воспроизводимого, где означающее наконец встречает собственную невозможность.
Добровольное подчинение себя Другому – этот парадоксальный жест самоустранения — можно трактовать через Левинаса: субъект выходит за пределы своей онтологической замкнутости, позволяет вписать в себя чужое слово, чужую боль, чужую линию поведения. В этом акте самопреобразования в материю – будь то глина или кожа, будь то папирус или бумага – происходит онтологическая жертва, не как отказ, но как аксиологический дар: тело предоставляется как поверхность письма, как фрейм семантического вмешательства, где смысл больше не рождается в автономной глубине, а наносится извне – волей Другого.
В этой логике субъект не исчезает, но, следуя за проживаемой множественностью языка и реальности, сам становится открытым множеством, как в теории хаоса: нелинейным, чувствительным к начальным условиям, включённым в сеть отношений, где каждое «я» – это точка пересечения языков, тел, катастроф, историй.
Поэтическая речь артикулируется, будто сплевывание культурно-временного яда, проникшего во все уровни означающего – настолько, что порой кажется, что это уже не Травма в психоаналитическом смысле и не историческая катастрофа в духе модернистского Erlebnis – это тотальный крах метаязыка, переформатирование реальности до её алфавитной основы. Перед нами не только «кризис репрезентации», но всемирный сбой кодировки, где логика символического порядка выбита из гнезда, а архивы смысла перешли в режим постоянного «зависания». Мир стал черновиком, и требуется тотальный рерайт – экзистенциальное переписывание всего, вплоть до грамматических категорий времени и рода.
Однако – и в этом апория – кто будет писать?
Для такой процедуры необходим не просто поэт или критик, а метафизический рерайтер, оператор посткатастрофической редакции, носитель археопамяти, субъект с правом на новую версию реальности. Он должен не только знать структуру языка, но владеть физикой хроноса; не просто работать с синтаксисом, а вмешиваться в темпоральные складки Бытия: нужен рерайтер уровня риты райт / опыт работы уровня тайм и цайт...
Иронический каламбур здесь – это проблеск поэтики сингулярности, вкрапление временной инженерии, в которой слово становится не знаком, а событием хронотопического воздействия. «Рита райт» – одновременно советская писательница и переводчица Рита Райт-Ковалёва, фигура правки (write/right) и метонимия риторической интуиции, а «тайм и цайт» – не только аллюзия на время как феномен, но и на две институционализированные формы его медиатизации – периодические издания Time и Die Zeit, то есть символы дискурсивного управления историчностью.
Таким образом, в фигуре рерайтера аккумулируется грамматическая или даже поэтическая компетенция, а также парадигма медиального суверенитета – способности вмешиваться в культурный код времени. Такой рерайтер переписывает картографию реального, где Time и Die Zeit становятся знаками глобального дискурсивного контроля над темпоральностью, своего рода хроно-доксой: тем, как время должно быть воспринято, прожито, истолковано.
В терминах философии медиа (Киттлер, Беньямин, Маклюэн), это редактор как интерфейс между медиасредой и субъективностью, фигура, способная редактировать не сообщение, а канал, не текст, а временные характеристики его распространения. Он функционирует как трансцендентальный медиатор, работающий не столько в поле языка, сколько на границе между текстом, историей и восприятием – как если бы время само подлежало редактированию через акты интерпретации и переформатирования. Иными словами, «тайм и цайт» – это указание на необходимость субъекта, обладающего семиотической властью над историческим нарративом, способного вмешиваться в редактуру – не текста, но темпоральных режимов опыта.
В постмодернистской рамке такой требуемый автор становится чем-то вроде литературного Прометея, ворующего огонь у мёртвых языков, чтобы переплавить их в новую временную ткань. Его опыт – в чистом виде гносеологический, как у тех, кто был на грани речевого распада и смог выйти, не растеряв алфавит. В конечном счёте, такой автор не переписывает текст – он переписывает само условие его возможности.
В этом финальном повороте, где текст уже давно выскользнул из объятий привычных нарративов и мчится по орбитам распада, Оборин осуществляет событие языка – событие на границе его смерти и перерождения. Это не модернистская тоска по целостности и не постмодернистская игра в отложенное значение; это – этический саботаж семиозиса, сознательный подрыв грамматик, которыми нас принуждают чувствовать «правильно».
Его подразумеваемое обращение к невозможному, к тому, что за пределами репрезентации, – это поэтика в духе отрицательной теологии, но без метафизического убежища. Здесь нет Бога, за которого можно спрятаться. Только текст, воюющий с самим собой, язык, противостоящий своему употреблению. Поэт оказывается в положении фигуры, которая, по Бланшо, пишет «из катастрофы», не о ней, а ею самой.
Оборин деконструирует язык внутренней логикой выживания: связность разрушена, привычные формы означивания утратили груз и тяжесть, а лексика – свою эмпатийную достоверность. В этом смысле Оборин – поэт пост-времени, в котором даже само понятие «сейчас» распадается на волны дезориентации. Его текст не говорит читателю – текст инициирует читателя, втягивает в пространство, где попытка понять становится актом сопротивления, а невозможность понять – актом сопричастности.
Этот жест политичен в самой своей структуре. Указывая на непередаваемое, но не выпуская из поля зрения обломки и руины некогда привычного и известного, Оборин отказывается участвовать в дискурсивных ритуалах идеологической нормализации. Язык для него – поле битвы, перформативное пространство, в котором сам отказ от формы есть форма, отказ от нарратива – подлинный нарратив, отказ от утешения – высшее утешение. Он вырывает поэзию из декоративной функции и запускает её как машину антиидеологического подрыва, ту самую машину, которую нельзя монетизировать или перевести в лозунг.
Но – и это ключевой момент – в подобной ситуации Оборин не выбирает нигилизм. Его бунт – не отказ от мира, а сотворение мира заново, из обломков синтаксиса, из пепла метафор, из вскипающего отчаяния, в котором, по странной диалектике, рождается пространство нового. Эта поэтика развертывается из пепла, где каждая строка – как сигнал из разрушенной цивилизации, переданный в будущее.
Книга Оборина сегодня оказывается в точке, где поэзия не просто фиксирует исторический разлом, но становится одним из немногих средств его артикуляции. Его позиция – не внешняя по отношению к катастрофе, а имманентная ей, он говорит изнутри трещины, не пытаясь её замаскировать или заделать – именно это делает его работу одной из наиболее значимых в сегодняшнем литературном поле. Эта книга – не жест автора, «знающего, как надо», а практика, которая нащупывает форму в условиях, когда сама форма поставлена под сомнение.
И если говорить без метафор и терминоцентризма, то Оборин сейчас один из немногих, кто может в полный голос говорить о рухнувшем мире. Его письмо проистекает из тех, кипящих предельностью, точек бытийного опыта, где для большинства возможно лишь молчание. Его книга – акт артикуляции смысла в эпоху, когда смысл ретируется; это – текст, равный проживаемому времени. И в этом – не просто поэзия. В этом – возможность.
Фото – Михаил Глазырин
Травма (именно с большой буквы, как в психоаналитическом и культурологическом словаре), являющаяся трансцендентным пунктом отсчёта для новой поэтики Оборина, структурирует речь по модели посткатастрофического дискурса: размывание интонационного ядра, возможно, намекает на попытку подрыва самой возможности интонации как таковой. Феноменология боли – или даже гиперболи – вытесняет привычную диахронию и на её место возводит структуру, насыщенную симптоматикой постпамяти и метафорической перегрузкой.
Ледники – quasi-архетип, функция в нарративной матрице текста – действуют как постсимволические конструкции, находящиеся в латентном конфликте с человеком и всем человеческим как производителями смысла. Их онтологическая холодность и неподвижность – не просто антиномия теплу и движению, а симптом глубинного семиозиса, в котором человеческое вытесняется нечеловеческим, а затем и античеловеческим. Первоначально обитая в регистре метафорического (или даже в топосе условного «сакрального»), эти ледяные массы проявляют себя как агенты Нарушения, вторжения Реального (в лакановском смысле) в ткань текста. С их появлением прежняя структура, основанная на квазикаузальной логике и допущении референциального порядка, рушится, обнажая хаос как имманентную природу реальности и любых высказываний о ней.
В этом кажущемся распаде возникает парадоксальная когерентность – почти как в гипертекстуальной системе, где порядок больше не навязан сверху, но рождается из множества микро-гештальтов, из игры бинарных оппозиций: «тёплое/холодное», «движущееся/застывшее», «человеческое/нечеловеческое». Эта структура, как и всё качественное постмодернистское письмо, больше не говорит напрямую, а предлагает читателю – но не текст, а интерфейс – пространство для взаимодействия с обломками смысла:
Вопреки всем прогнозам, ледники наступали
ледники всем прогнозам
тянулись, как мои руки, и несли в себе кости
между всякими пальцами немудрёные фьорды
кости бумеров поставляются
в индивидуальных пластиковых упаковках…
Однако в типично энтропийной манере картинка начинает плавиться, плыть, соскальзывать в параноидальный пиксельный туман, поэтический дискурс стремительно смещается от абстрактных медитаций (неопределённо-онтологических, почти академически-безопасных) к лобовому столкновению с тем, что Адорно мог бы назвать абсолютной отрицательностью – но уже без надежды на эстетику как на убежище. Историческая ситуация здесь – не фон, не контекст, а та самая темпоральная червоточина, через которую субъект вываливается из привычного координатного пространства языка и натыкается на хаос, где референты сломаны, знаки бегут сами от себя, а деконструкция давно не в ходу, потому что всё уже деконструировано до основания, включая саму возможность деконструкции.
В этой языковой пустыне, усеянной обломками денотативного порядка, смысл предстает не как нечто данное или создаваемое, а как вирусная гипотеза – возможно, случайная, возможно, иллюзорная, но необходимая для выживания сознания в условиях тотального прагматического сбоя, когда пространства – физические, цифровые, когнитивные – оказались инфицированы насилием.
В поэтическую речь то и дело врывается репрезентативный мусор, но не как случайный фон, а как содержательная структура новой реальности: поисковые запросы, сшитые в полусвязный поток сознания, становятся пост-лирическим дезинтеграционным потоком с примесью TikTok-склейки и маргинальных уголков интернета.
Машина языка, утратив тормоза синтаксиса, начинает издавать звуки, всё больше походящие на «нечто среднее между / ангельским пением и неисправной электропилой». Это уже больше, чем метафора: это онтологический взрыв, всколыхнувший пространство и время до такой степени, что сквозь прежние слои проступает незнакомый мир, где каждый звук – это не сообщение, а сигнал тревоги в условиях разрушения структур означивания.
Смысл – если он вообще возможен – должен быть не открыт, но хакнут, выломан из системы, возникнув, как backdoor в пост-историческую логику, где всё ещё мерцает надежда, но мерцание это неизбежно совпадает с когнитивным ритмом в условиях исторической воронки, затягивающей в свои разрушительные вращения:
что ты узнаешь скоро:
что пол — это лава,
что времени больше не будет,
что запасных деталей
для сезонного существа
не предусмотрено
В кризисном хронотопе, где всякая стабильная онтология уже давно утонула в кислотном дожде симулякров и фрагментов, поэт обнаруживает своё «я» не как субстанцию, а как гибридную, текучую процедуру становления – модульную и реверсивную, встроенную в контекст аффективного взаимодействия. Субъект здесь – не автономная инстанция сознания, а исполненный отрешенного безразличия event-based entity, актуализирующийся в актах боли, саморазрыва и лингвистического переформатирования:
тысячами глаз безразлично
отображаю что просишь, с каждым
движением порождаю это на новом месте,
мне всё равно…
Отдельное стихотворение превращается в перформативную лабораторию, где «я» не столько говорит, сколько преломляется через ритуалы пластичности, транслируя через метафору изменения вещественного – от глины до кожи, от папируса до бумаги – язык, в котором материальность тела и материальность текста совпадают в точке предельного износа:
отвердею для тебя: глина
вывернусь для тебя: кожа
соберу, склею себя
для тебя: папирус
изменю вес, потеряю форму
выбелю лицо, буду стлаться
и резать себя на части
для тебя: бумага…
Это – «Пятый ледник», один из ключевых текстов книги, помогающий понять сдвиг в поэтике Оборина. Перед нами – не манифест, но апофатическая телесная поэтика, в которой субъект не заявляет о себе, но трансформируется и разрушается, становясь не местом речи, а медиа-носителем, объектом перезаписи. Каждая строка апеллирует к хрупкому архиву идентичности, начертанному на глубоко уязвимом материале культуры, повреждённом воздействием насилия.
«Я» утрачивает опору в постоянстве: оно не пред-дано, а выставлено, высказано, вылеплено из семиотической и телесной дрожи. Личность становится постструктурным артефактом, множественным, фрагментированным, переписываемым – тело как поверхность письма, кожа как палимпсест.
Так, «бумага» – это и стадия метаморфозы, и аллегория, и вектор уязвимости, тонкая поверхность, по которой культура пишет, переписывает, стирает написанное, которую культура режет, оставляя лишь след – след катастрофы, след любви, след языка.
Здесь граница между телом и сознанием исчезает, как чернила древней рукописи под сканирующими лучами постструктуралистской диагностики. В этом поэтическом ландшафте, полном шумов, побочных эффектов и семиотических багов, субъект не то чтобы говорит, он становится сказуемым, проявляясь как вереница метаморфоз: глина, кожа, папирус, бумага – каждая стадия есть онтологическая модальность, топология становления, где «я» – не сущность, а процесс, не вещь, а машина желаний, хаотическая, самособирающаяся и самоуничтожающаяся.
Поэт здесь – не личность, а скорее текстуальный оператор, интерфейс, через который проходит поток смыслов, травм, (чужих?) желаний. Он вступает в открытую деконструкцию собственного «я», запуская создание множественного субъекта – без излишней, как может показаться, драматизации, ведь это – культурно-философская необходимость в эпоху, когда идентичность больше не базируется на некоем фундаменте, а дрейфует в океане симулякров.
Эта множественность – не признак разрушения, а режим существования в постмодернистском регистре, где фиксированное «я» – это иллюзия, последовательно разоблачаемая оптикой письма. «Я» поэта – это постоянно переписываемый палимпсест, тело как живой текст, способный к бесконечной редактуре, перезаписи, монтажу.
В «Пятом леднике» множественность субъекта – это не столько проекция внутренней шизоморфной динамики сознания, сколько отражение поля медиальной экзистенции. Здесь субъект не устойчив, он колеблется между фигурами наблюдающего, переживающего и исчезающего, постоянно сбивается в лиминальных зонах между языком и реальностью.
Перелом происходит на участке текста, где вербальная ткань разрушается повтором, напоминающим сбой в потоке передачи данных: лихорадка связь лихорадка. Это – не столько риторический жест, сколько момент дестабилизации, в котором схлопывается дискурсивная целостность субъекта. В текст вторгается безличный протокол наблюдения – своего рода алгоритмический свидетель, встроенный в ландшафт цифровой феноменологии, где уже говорит не субъект, но система. Этот голос – не только внутренний, но и внешний, системный, квазимеханический: голос инфраструктуры, как сказал бы Беньямин, одержимой собственным Jetztzeit.
Именно в этом сегменте появляется сдвиг от фигуры «ты» – субъекта, оставленного в пространстве, будто бы лишенном прежних связей и проживающем утрату мифа о едином «Я», – к новой форме медиального присутствия. Здесь бумага (традиционный медиум письма, носитель феноменологического следа) уступает своё место «аргусу люминофора» – фантомной сущности светящегося экрана, уже не отражающей, но продуцирующей реальность. Это – ЖК-дисплей как аллюзия на всевидящего техно-Аргуса, субъекта, фрагментированного на множество пикселей, каждый из которых является оптико-информационным глазом, взглядом в триллионах шестиконечных линз. Этот дисплей – возможно, и семиотическая решётка, и особая (кибернетическая?) топика зрения, каждый пиксель которой – зрячий и одновременно создающий картинку – это точка кипения, locus предельного аффекта.
Возможно, субъект здесь – не точка отсчёта, а рассеянный эффект наблюдения, множественность телесно-технических интерфейсов, собранных в постструктуралистскую машину взгляда, где дизъюнктивные синтезы производят не смысл, но жар, умножаемый параллельными линиями желаний. В этих пиксельных точках кипения не субъект находит опыт, а опыт – испаряет субъекта. Здесь заявлена новая для Оборина онтология зрения: зрение как катаболизм, как репликация травмы – взгляд, от которого расплавляется граница между органическим и алгоритмическим. И всё это – под холодным шорохом ледников, несущих с собой не просто температуру, а модальность – модальность безжизненности, того, что вне языка, вне дискурса, вне воспроизводимого, где означающее наконец встречает собственную невозможность.
Добровольное подчинение себя Другому – этот парадоксальный жест самоустранения — можно трактовать через Левинаса: субъект выходит за пределы своей онтологической замкнутости, позволяет вписать в себя чужое слово, чужую боль, чужую линию поведения. В этом акте самопреобразования в материю – будь то глина или кожа, будь то папирус или бумага – происходит онтологическая жертва, не как отказ, но как аксиологический дар: тело предоставляется как поверхность письма, как фрейм семантического вмешательства, где смысл больше не рождается в автономной глубине, а наносится извне – волей Другого.
В этой логике субъект не исчезает, но, следуя за проживаемой множественностью языка и реальности, сам становится открытым множеством, как в теории хаоса: нелинейным, чувствительным к начальным условиям, включённым в сеть отношений, где каждое «я» – это точка пересечения языков, тел, катастроф, историй.
Поэтическая речь артикулируется, будто сплевывание культурно-временного яда, проникшего во все уровни означающего – настолько, что порой кажется, что это уже не Травма в психоаналитическом смысле и не историческая катастрофа в духе модернистского Erlebnis – это тотальный крах метаязыка, переформатирование реальности до её алфавитной основы. Перед нами не только «кризис репрезентации», но всемирный сбой кодировки, где логика символического порядка выбита из гнезда, а архивы смысла перешли в режим постоянного «зависания». Мир стал черновиком, и требуется тотальный рерайт – экзистенциальное переписывание всего, вплоть до грамматических категорий времени и рода.
Однако – и в этом апория – кто будет писать?
Для такой процедуры необходим не просто поэт или критик, а метафизический рерайтер, оператор посткатастрофической редакции, носитель археопамяти, субъект с правом на новую версию реальности. Он должен не только знать структуру языка, но владеть физикой хроноса; не просто работать с синтаксисом, а вмешиваться в темпоральные складки Бытия: нужен рерайтер уровня риты райт / опыт работы уровня тайм и цайт...
Иронический каламбур здесь – это проблеск поэтики сингулярности, вкрапление временной инженерии, в которой слово становится не знаком, а событием хронотопического воздействия. «Рита райт» – одновременно советская писательница и переводчица Рита Райт-Ковалёва, фигура правки (write/right) и метонимия риторической интуиции, а «тайм и цайт» – не только аллюзия на время как феномен, но и на две институционализированные формы его медиатизации – периодические издания Time и Die Zeit, то есть символы дискурсивного управления историчностью.
Таким образом, в фигуре рерайтера аккумулируется грамматическая или даже поэтическая компетенция, а также парадигма медиального суверенитета – способности вмешиваться в культурный код времени. Такой рерайтер переписывает картографию реального, где Time и Die Zeit становятся знаками глобального дискурсивного контроля над темпоральностью, своего рода хроно-доксой: тем, как время должно быть воспринято, прожито, истолковано.
В терминах философии медиа (Киттлер, Беньямин, Маклюэн), это редактор как интерфейс между медиасредой и субъективностью, фигура, способная редактировать не сообщение, а канал, не текст, а временные характеристики его распространения. Он функционирует как трансцендентальный медиатор, работающий не столько в поле языка, сколько на границе между текстом, историей и восприятием – как если бы время само подлежало редактированию через акты интерпретации и переформатирования. Иными словами, «тайм и цайт» – это указание на необходимость субъекта, обладающего семиотической властью над историческим нарративом, способного вмешиваться в редактуру – не текста, но темпоральных режимов опыта.
В постмодернистской рамке такой требуемый автор становится чем-то вроде литературного Прометея, ворующего огонь у мёртвых языков, чтобы переплавить их в новую временную ткань. Его опыт – в чистом виде гносеологический, как у тех, кто был на грани речевого распада и смог выйти, не растеряв алфавит. В конечном счёте, такой автор не переписывает текст – он переписывает само условие его возможности.
В этом финальном повороте, где текст уже давно выскользнул из объятий привычных нарративов и мчится по орбитам распада, Оборин осуществляет событие языка – событие на границе его смерти и перерождения. Это не модернистская тоска по целостности и не постмодернистская игра в отложенное значение; это – этический саботаж семиозиса, сознательный подрыв грамматик, которыми нас принуждают чувствовать «правильно».
Его подразумеваемое обращение к невозможному, к тому, что за пределами репрезентации, – это поэтика в духе отрицательной теологии, но без метафизического убежища. Здесь нет Бога, за которого можно спрятаться. Только текст, воюющий с самим собой, язык, противостоящий своему употреблению. Поэт оказывается в положении фигуры, которая, по Бланшо, пишет «из катастрофы», не о ней, а ею самой.
Оборин деконструирует язык внутренней логикой выживания: связность разрушена, привычные формы означивания утратили груз и тяжесть, а лексика – свою эмпатийную достоверность. В этом смысле Оборин – поэт пост-времени, в котором даже само понятие «сейчас» распадается на волны дезориентации. Его текст не говорит читателю – текст инициирует читателя, втягивает в пространство, где попытка понять становится актом сопротивления, а невозможность понять – актом сопричастности.
Этот жест политичен в самой своей структуре. Указывая на непередаваемое, но не выпуская из поля зрения обломки и руины некогда привычного и известного, Оборин отказывается участвовать в дискурсивных ритуалах идеологической нормализации. Язык для него – поле битвы, перформативное пространство, в котором сам отказ от формы есть форма, отказ от нарратива – подлинный нарратив, отказ от утешения – высшее утешение. Он вырывает поэзию из декоративной функции и запускает её как машину антиидеологического подрыва, ту самую машину, которую нельзя монетизировать или перевести в лозунг.
Но – и это ключевой момент – в подобной ситуации Оборин не выбирает нигилизм. Его бунт – не отказ от мира, а сотворение мира заново, из обломков синтаксиса, из пепла метафор, из вскипающего отчаяния, в котором, по странной диалектике, рождается пространство нового. Эта поэтика развертывается из пепла, где каждая строка – как сигнал из разрушенной цивилизации, переданный в будущее.
Книга Оборина сегодня оказывается в точке, где поэзия не просто фиксирует исторический разлом, но становится одним из немногих средств его артикуляции. Его позиция – не внешняя по отношению к катастрофе, а имманентная ей, он говорит изнутри трещины, не пытаясь её замаскировать или заделать – именно это делает его работу одной из наиболее значимых в сегодняшнем литературном поле. Эта книга – не жест автора, «знающего, как надо», а практика, которая нащупывает форму в условиях, когда сама форма поставлена под сомнение.
И если говорить без метафор и терминоцентризма, то Оборин сейчас один из немногих, кто может в полный голос говорить о рухнувшем мире. Его письмо проистекает из тех, кипящих предельностью, точек бытийного опыта, где для большинства возможно лишь молчание. Его книга – акт артикуляции смысла в эпоху, когда смысл ретируется; это – текст, равный проживаемому времени. И в этом – не просто поэзия. В этом – возможность.
Фото – Михаил Глазырин