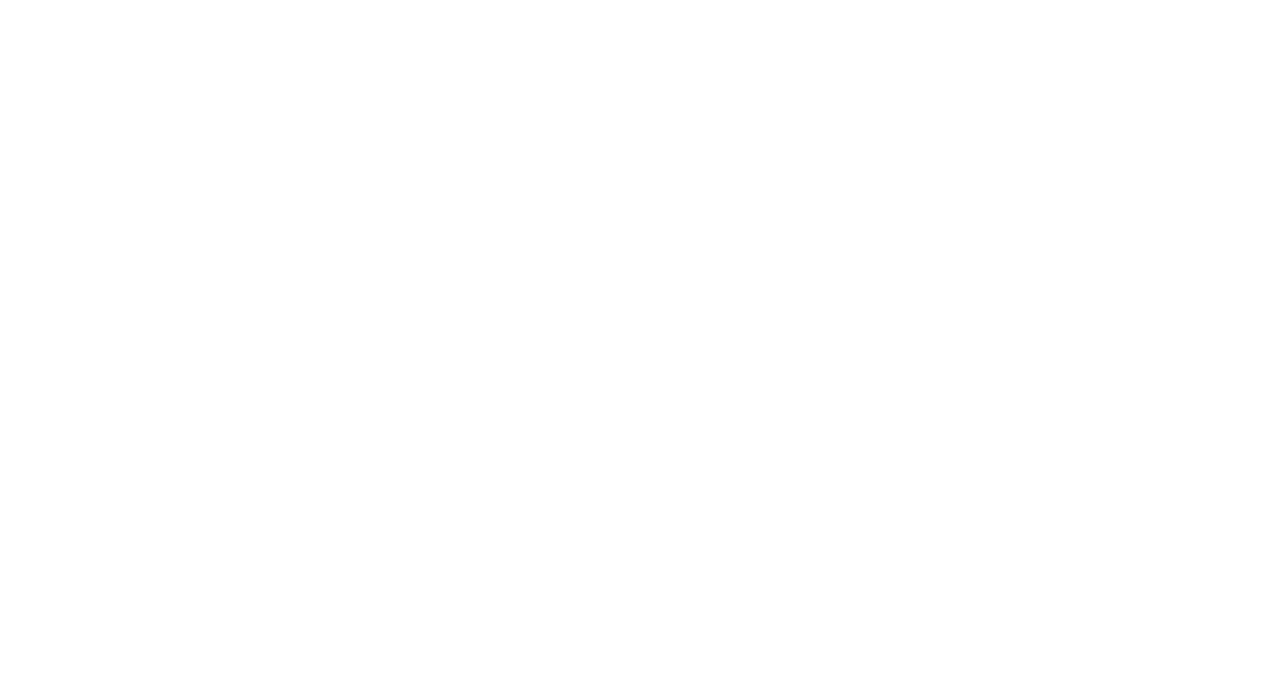интервью с Дашей Сиротинской
Сломать первичный закон:
о «Теореме тишины»,
дневниках и сушеных ананасах
Сломать первичный закон:
о «Теореме тишины»,
дневниках и сушеных ананасах
В 2024 году в «Издательстве Ивана Лимбаха» вышел роман Даши Сиротинской «Теорема тишины». Этому изданию предшествовала литературная мистификация: в журнале «Иностранная литература» роман был опубликован под авторством ирландского писателя Александра Дэшли.
Ничего подобного этой вашей «Теореме тишины» я никогда в жизни не писал, и если только у мисс Сиротинской нет совсем уж буйного помешательства, – тогда смею предполагать, и вообще никто ничего подобного никогда не писал ни на каком языке, за исключением самой мисс Сиротинской, – из письма Александра Дэшли в редакцию журнала «Иностранная литература».
Главный герой «Теоремы тишины» строит в лесу дом, чтобы пребывать в полном одиночестве и ненарушаемой тишине. Но комнаты его дома начинают занимать люди, каждый из которых живет в своем пространстве: в лесу, в городе, на равнине, на берегу моря…
Ничего подобного этой вашей «Теореме тишины» я никогда в жизни не писал, и если только у мисс Сиротинской нет совсем уж буйного помешательства, – тогда смею предполагать, и вообще никто ничего подобного никогда не писал ни на каком языке, за исключением самой мисс Сиротинской, – из письма Александра Дэшли в редакцию журнала «Иностранная литература».
Главный герой «Теоремы тишины» строит в лесу дом, чтобы пребывать в полном одиночестве и ненарушаемой тишине. Но комнаты его дома начинают занимать люди, каждый из которых живет в своем пространстве: в лесу, в городе, на равнине, на берегу моря…
Я даже незаметно приоткрыл окно в лес, в мороз, и с еловых веток на подоконник сыпался снег, – мне хотелось, чтобы Профессору становилось хоть немножко легче дышать в его тяжком городском воздухе.
В марте 2025 года Даша приехала в Екатеринбург, чтобы презентовать роман в книжном магазине «Буквально» в честь тридцатилетия «Издательства Ивана Лимбаха». Мы провели с ней несколько дней и записали одну из наших бесед.
Беседу вели Вячеслав Глазырин, Илья Федоров и Надя Черноскутова.
Беседу вели Вячеслав Глазырин, Илья Федоров и Надя Черноскутова.
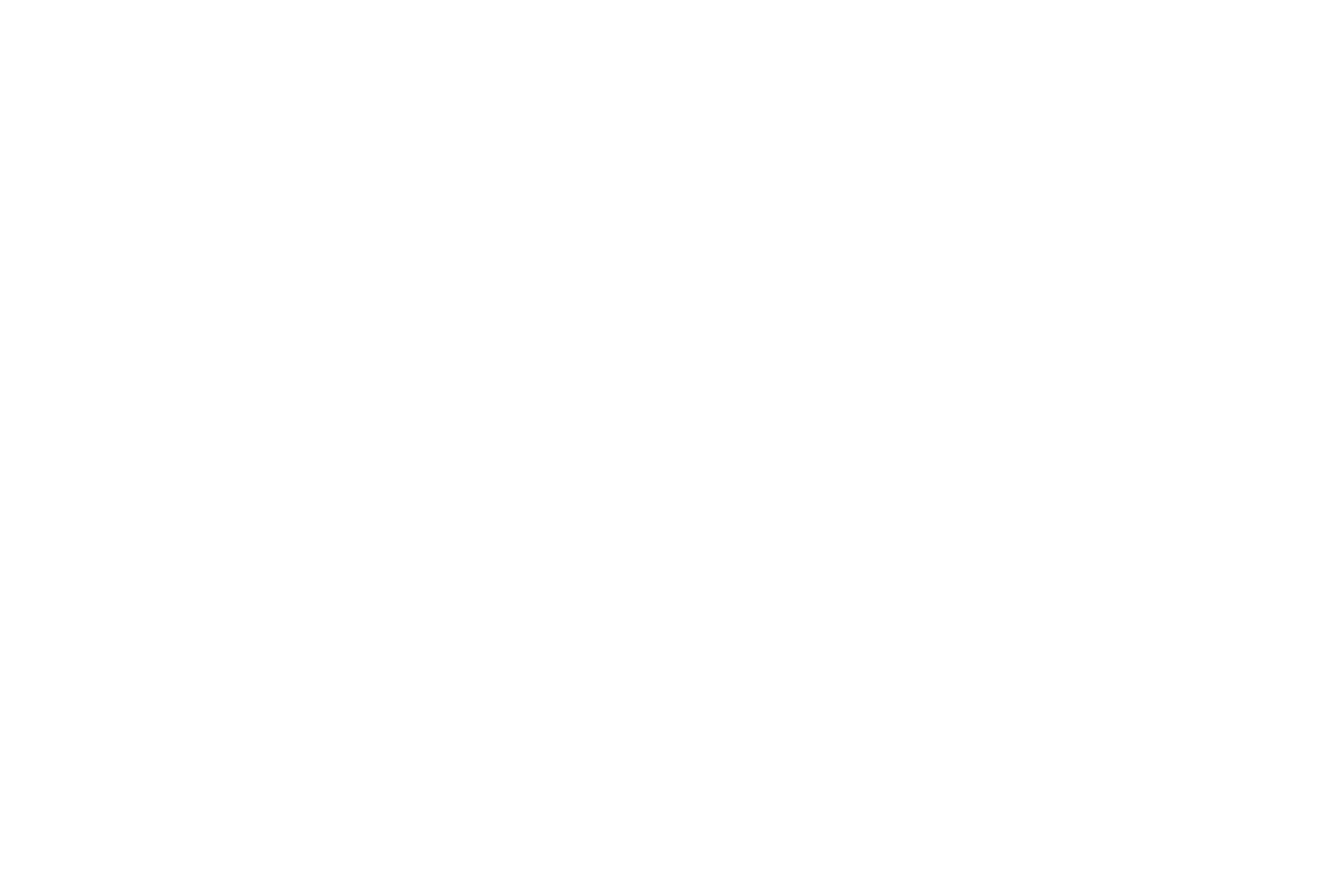
ДС: … название-то тупое, мне оно не очень нравится, честно говоря…
ВГ: Не нравится?!
ДС: Не очень, да. Но я очень плохо придумываю названия, в принципе не умею этого делать. У меня названия все придумывает мама. Нет, это я сама придумывала, конечно, но я не очень им довольна. Потом я, конечно, в него вчитала всякие математические смыслы: математика меня интересовала всегда.
ВГ: Я перед нашей встречей, естественно, решил перечитать его.
ДС: Ты ещё его и перечитал?!
ВГ: Конечно!
ДС: Значит, ты лучше меня помнишь, о чем там вообще [смеется]!
ВГ: С первого же прочтения я понял, что передо мной удивительная книга. При втором – впечатление только усилилось! Дело в том, что у нас – мандельштамовских уральских ребят – очень сложные отношения с современной прозой. Мы в ожидании небывалой прозы: мы знаем современных поэтов просто запредельного уровня, но прозаиков такого уровня мне назвать сложно…
ДС: А как сочетаются Урал и Мандельштам, я не поняла. Что это за комбо? Почему именно в таком сочетании они дают недоверие к прозе вообще?
ВГ: Мы же немножко дуболомы. Очень любим «Школу для дураков», «Москву-Петушки». Если я читаю книгу, и ничего не подчеркну на первых ее страницах, то вряд ли я буду ее читать дальше. Кстати, совсем недавно открыли для себя «Зелика» Александра Розеншторма…
ДС: Я знаю, конечно, это имя, но, к сожалению, не читала.
ВГ: Твоя книга для меня чётко встала вот в эту парадигму: «Москва-Петушки» – «Школа для дураков» – «Зелик» – «Теорема тишины».
ДС: Да уж! «До чего дошла ты, Дашенька, в поисках своего я?!» Вчера на презентации в Ижевске тоже всплывала «Москва-Петушки»: неожиданное совершенно для меня соседство.
ВГ: Для меня это очевидная связь. И название у тебя, на мой взгляд, очень точное, зря ты так!
ВГ: Не нравится?!
ДС: Не очень, да. Но я очень плохо придумываю названия, в принципе не умею этого делать. У меня названия все придумывает мама. Нет, это я сама придумывала, конечно, но я не очень им довольна. Потом я, конечно, в него вчитала всякие математические смыслы: математика меня интересовала всегда.
ВГ: Я перед нашей встречей, естественно, решил перечитать его.
ДС: Ты ещё его и перечитал?!
ВГ: Конечно!
ДС: Значит, ты лучше меня помнишь, о чем там вообще [смеется]!
ВГ: С первого же прочтения я понял, что передо мной удивительная книга. При втором – впечатление только усилилось! Дело в том, что у нас – мандельштамовских уральских ребят – очень сложные отношения с современной прозой. Мы в ожидании небывалой прозы: мы знаем современных поэтов просто запредельного уровня, но прозаиков такого уровня мне назвать сложно…
ДС: А как сочетаются Урал и Мандельштам, я не поняла. Что это за комбо? Почему именно в таком сочетании они дают недоверие к прозе вообще?
ВГ: Мы же немножко дуболомы. Очень любим «Школу для дураков», «Москву-Петушки». Если я читаю книгу, и ничего не подчеркну на первых ее страницах, то вряд ли я буду ее читать дальше. Кстати, совсем недавно открыли для себя «Зелика» Александра Розеншторма…
ДС: Я знаю, конечно, это имя, но, к сожалению, не читала.
ВГ: Твоя книга для меня чётко встала вот в эту парадигму: «Москва-Петушки» – «Школа для дураков» – «Зелик» – «Теорема тишины».
ДС: Да уж! «До чего дошла ты, Дашенька, в поисках своего я?!» Вчера на презентации в Ижевске тоже всплывала «Москва-Петушки»: неожиданное совершенно для меня соседство.
ВГ: Для меня это очевидная связь. И название у тебя, на мой взгляд, очень точное, зря ты так!
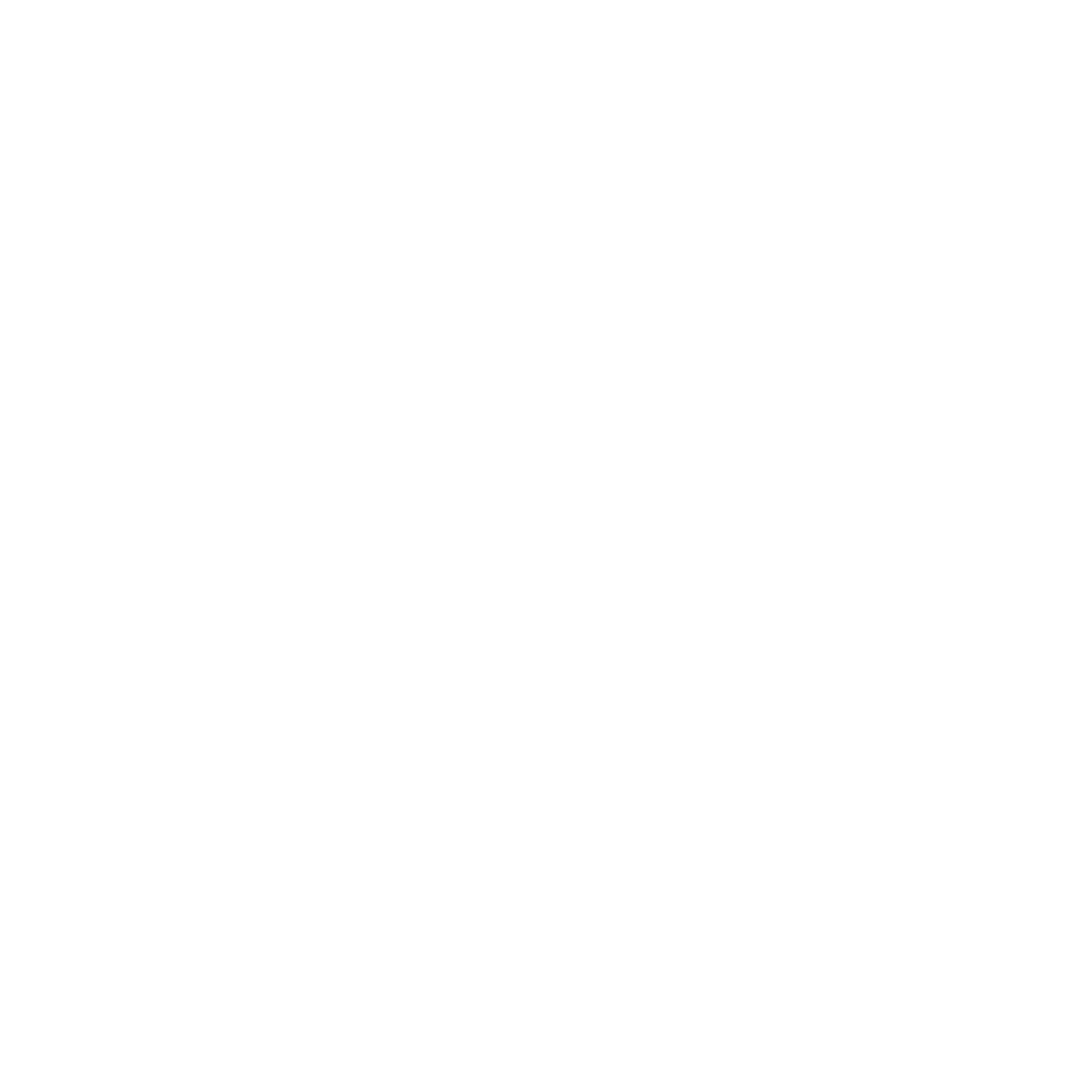
ДС: Когда я подумала, почему книга так называется, уже после того, как она так назвалась сама собой, я поняла, что сама по себе книга является доказательством теоремы, это такая теорема в развертке.
ВГ: Все уходят, он остается один, что и требовалось доказать.
ДС: Да, и вот сейчас, когда некоторые критики пишут про книгу, у них появляется удивительная для меня мысль, что это утопия. На мой взгляд, это антиутопия. Это совсем не утопия! Я совершенно не солидаризируюсь с героем, я не одобряю… Не то, что не одобряю, но просто я бы так не стала делать, вот. И поэтому мне кажется, что ничего хорошего-то не получилось в итоге у него. В романе нет счастливого финала, это такое развернутое доказательство теоремы: если ты хочешь тишины, значит, отказывайся от всего остального и потом страдай.
ВГ: Чувствуешь ли ты сама, что он действительно страдает?
ДС: Мне кажется, там это даже написано. За счёт них преобразовался его мир, потому что они ушли, и осталось то, что они принесли с собой. Дороги, мосты – это все осталось. Остались этажи, которых не было. Остались их следы. С этим он продолжает жить. И они все тоже как бы остались: он слышит их шаги и думает о том, что бы они сказали в той или иной ситуации. Он всё равно не может жить дальше так, как изначально хотел. Зато тихо.
Я прошел вниз по течению несколько шагов и с удивлением увидел, что там и в самом деле есть мост: заросший травой, покосившийся, с огромными дырами, через которые были видны камни на мелком речном дне, – но это был мост, и я никак не мог понять, как же я его не замечал раньше.
ИФ: «Теорема тишины» – это уже история, которую тебе приходится вспоминать? Или ты еще находишься в ней?
ДС: 2015-2017 годы это писалось, давно писалось, и просто она выплыла, и опять-таки некоторые люди воспринимают так, что это было написано изначально как мистификация, что, конечно, не так. Это было написано как написано, а потом было опубликовано как мистификация, получается, почти десять лет спустя. Поэтому, конечно, для меня это достаточно старый текст. Я его очень, само собой, люблю, но с тех пор, как я его писала, я стала другой.
ВГ: Насколько другой?
ДС: Когда мы вообще начали историю с ее изданием, таким многоступенчатым: в журнале, потом она попала в издательство… Я в журнал ее отдала не глядя: как она у меня лежала эти семь лет, я вообще туда не заглядывала, мне очень трудно было этот текст воспринимать как какой-то, в который я могу вмешиваться. Она семь лет жила своей жизнью, да, без меня уже там все словечки прижились, веточками распустились. Но уже в «Издательстве Ивана Лимбаха» меня заставили вмешаться: появился редактор, значит, мне присылали правки…
ВГ: Что именно просили исправить?
ДС: Из самых серьёзных были правки в начале, где Профессор появляется, где становится понятно, что они все существуют в разных пространствах: у меня это было немножко по-другому написано, в издательстве сочли, что не очень понятно читателю, что вообще происходит. Они мне сказали, создается впечатление, что автор совсем ку-ку, и читатель тоже начинает себя так ощущать. Я там один абзац дописала, буквально даже пару предложений.
ВГ: А стилистически?
ДС: Я утерла очень много соплей, потому что вообще книга, конечно, рождена из соплей, из моего ужаса перед красотой, которая меня окружает со всех сторон. И когда это всё писалось, я не могла никак себя сдерживать, сколько мне там было лет-то… Были какие-то банальные обороты, какие-то излишние, розовость такая была, и я это все почикала достаточно прилично. Книга стала посуше, и я довольна тем, как я её переделала уже из нынешнего, более взрослого состояния. Вот, спасибо им за то, что они меня заставили, и, пока я этого не сделала, у меня не было ощущения, что это моя книжка. И только когда я ещё раз через себя ее пропустила, снова внесла какие-то изменения, вот тогда я поняла, что мы с этим текстом имеем друг к другу какое-то отношение, и стало гораздо более радостно, конечно, что книга так появляется. Но в принципе, она, как я, по-моему, тебе говорила, процентов на семьдесят пять состоит из дневников.
ВГ: Да, я хотел к этому плавно перейти, но Даша сама плавно перешла…
ДС: Для меня это совсем не плавный переход. Я все время как будто оправдываюсь, что она появилась, потому что я пишу дневники. Это основное: я пишу, пишу, пишу дневники в ужасе от того, что все уходит, вся эта красота уходит, я это пытаюсь как-то зафиксировать. В какой-то момент моей жизни я просто поняла, что не могу больше держать это в себе, я должна это показать. И я думаю: вот, у меня есть мои дневники, я должна рассказать какую-то историю. На придумывание истории два года и ушли. То есть у меня всё было готово, но мне нужно было придумать какой-то мир, каких-то героев.
Вот я придумываю их имена, но я думаю: они все соберутся, что они будут делать? как они будут взаимодействовать? зачем они друг другу вообще все? Конечно, сейчас бы я, наверное, не смогла так – не смогла ничего придумать, такого построения умозрительного, схемы, в которой какие-то абстрактные совершенно персонажи доказывают друг другу магическую просто конструкцию. В общем, сейчас я стала глупее, чем была тогда, скажем так.
ВГ: Мы сейчас больше делаем акцент на архитектуре книги, на том, как она простроена. Но для меня самое главное в «Теореме» – как она написана. Мне кажется, ты стоишь в ряду мощных авторов, которые расширяют границы слова, возможности слова. Ты убираешь границу между словом прозаическим и словом поэтическим: вот идет прозаический текст, который переходит в чистые стихи. Не в стихотворение в прозе, как у Тургенева, а в подлинные стихи, которые просто представлены в иной форме. Мне кажется, «Теорема тишины» – это не роман, а поэма. Таких книг в русской литературе очень мало, «Жизнь Арсеньева», например.
ДС: 2015-2017 годы это писалось, давно писалось, и просто она выплыла, и опять-таки некоторые люди воспринимают так, что это было написано изначально как мистификация, что, конечно, не так. Это было написано как написано, а потом было опубликовано как мистификация, получается, почти десять лет спустя. Поэтому, конечно, для меня это достаточно старый текст. Я его очень, само собой, люблю, но с тех пор, как я его писала, я стала другой.
ВГ: Насколько другой?
ДС: Когда мы вообще начали историю с ее изданием, таким многоступенчатым: в журнале, потом она попала в издательство… Я в журнал ее отдала не глядя: как она у меня лежала эти семь лет, я вообще туда не заглядывала, мне очень трудно было этот текст воспринимать как какой-то, в который я могу вмешиваться. Она семь лет жила своей жизнью, да, без меня уже там все словечки прижились, веточками распустились. Но уже в «Издательстве Ивана Лимбаха» меня заставили вмешаться: появился редактор, значит, мне присылали правки…
ВГ: Что именно просили исправить?
ДС: Из самых серьёзных были правки в начале, где Профессор появляется, где становится понятно, что они все существуют в разных пространствах: у меня это было немножко по-другому написано, в издательстве сочли, что не очень понятно читателю, что вообще происходит. Они мне сказали, создается впечатление, что автор совсем ку-ку, и читатель тоже начинает себя так ощущать. Я там один абзац дописала, буквально даже пару предложений.
ВГ: А стилистически?
ДС: Я утерла очень много соплей, потому что вообще книга, конечно, рождена из соплей, из моего ужаса перед красотой, которая меня окружает со всех сторон. И когда это всё писалось, я не могла никак себя сдерживать, сколько мне там было лет-то… Были какие-то банальные обороты, какие-то излишние, розовость такая была, и я это все почикала достаточно прилично. Книга стала посуше, и я довольна тем, как я её переделала уже из нынешнего, более взрослого состояния. Вот, спасибо им за то, что они меня заставили, и, пока я этого не сделала, у меня не было ощущения, что это моя книжка. И только когда я ещё раз через себя ее пропустила, снова внесла какие-то изменения, вот тогда я поняла, что мы с этим текстом имеем друг к другу какое-то отношение, и стало гораздо более радостно, конечно, что книга так появляется. Но в принципе, она, как я, по-моему, тебе говорила, процентов на семьдесят пять состоит из дневников.
ВГ: Да, я хотел к этому плавно перейти, но Даша сама плавно перешла…
ДС: Для меня это совсем не плавный переход. Я все время как будто оправдываюсь, что она появилась, потому что я пишу дневники. Это основное: я пишу, пишу, пишу дневники в ужасе от того, что все уходит, вся эта красота уходит, я это пытаюсь как-то зафиксировать. В какой-то момент моей жизни я просто поняла, что не могу больше держать это в себе, я должна это показать. И я думаю: вот, у меня есть мои дневники, я должна рассказать какую-то историю. На придумывание истории два года и ушли. То есть у меня всё было готово, но мне нужно было придумать какой-то мир, каких-то героев.
Вот я придумываю их имена, но я думаю: они все соберутся, что они будут делать? как они будут взаимодействовать? зачем они друг другу вообще все? Конечно, сейчас бы я, наверное, не смогла так – не смогла ничего придумать, такого построения умозрительного, схемы, в которой какие-то абстрактные совершенно персонажи доказывают друг другу магическую просто конструкцию. В общем, сейчас я стала глупее, чем была тогда, скажем так.
ВГ: Мы сейчас больше делаем акцент на архитектуре книги, на том, как она простроена. Но для меня самое главное в «Теореме» – как она написана. Мне кажется, ты стоишь в ряду мощных авторов, которые расширяют границы слова, возможности слова. Ты убираешь границу между словом прозаическим и словом поэтическим: вот идет прозаический текст, который переходит в чистые стихи. Не в стихотворение в прозе, как у Тургенева, а в подлинные стихи, которые просто представлены в иной форме. Мне кажется, «Теорема тишины» – это не роман, а поэма. Таких книг в русской литературе очень мало, «Жизнь Арсеньева», например.
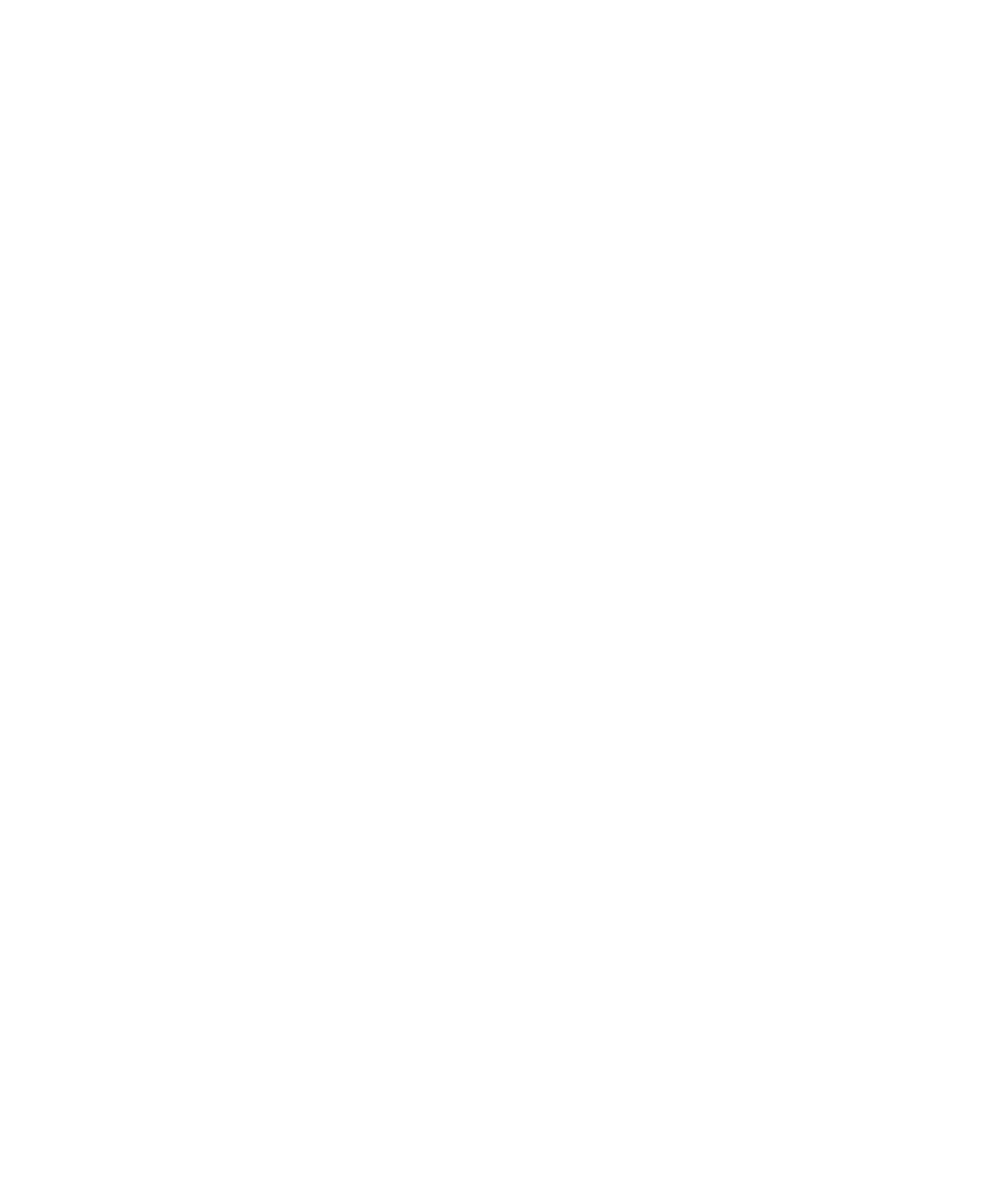
Мне было неприятно, что бесшумные золотые склоны моей реки таят от меня чье-то присутствие. Вот кто-то звонко взмахнул удочкой, оглушительно щелкнул в воздухе поплавок, безбожно, цареубийственно по отношению к моей тишине, и в воду посыпались капли с лески и вдруг смутили засыпающую реку тревожными письменами брызг. Я был прямо-таки разозлен, разозлен не на шутку! Одного такого вот щегольского росчерка удочкой достаточно, чтобы по хрупкой сфере безмолвия, повторяющей очертания земли, пошли трещины, похожие на ветви старого зимнего дерева, и мир стал таким, каким его изображают на картинках в книгах о языческой древности.
ДС: Сознательно я ничего этого не делала, конечно. По тому, что мне говорят про этот текст, я поняла, что изначальный материал – дневники – и оказался самым важным. Это хорошо, да? Конструкция, которую я натянула на это, – второстепенна. А вот именно то, что мне нужно было показать, оно увиделось. И отлично. Я, конечно, ничего специально не раскладывала никуда. Я просто так пишу. То есть я не поэт. Я давно не пишу никаких стихов. Вот, и слава богу, что я этого не делаю!
ВГ: А я тебе еще раз говорю, что это стихи!
ДС: Может, это и стихи, но они существуют в прозаическом виде. Это даже не то, что я так пишу, но я так воспринимаю, просто записываю, понимаешь? Вот так они и получаются. Наверное, это не прозаический все-таки текст, потому что прозаический текст – это какая-то длительность, это переход из сцены в сцену, это развертка какая-то, да? Здесь, конечно, не прозаическая цель была передо мной, а вот эта одна вспышка зрения такая, как в поэзии – попытаться написать правду сиюминутную: вот я вышла, увидела… Это, конечно, поэтическая цель. С этой точки зрения, наверное, книжка поэтическая.
Но я ничего этого не думала, конечно, когда это писала. Более того, я же продолжаю вести дневники и продолжаю это всё записывать. И из того, что я сейчас пишу и раньше писала, сделаю что-то новое. Наверное, это будет такая же по природе книга. Но, конечно же, я не думала никогда: поэт я или прозаик?
ВГ: А я тебе еще раз говорю, что это стихи!
ДС: Может, это и стихи, но они существуют в прозаическом виде. Это даже не то, что я так пишу, но я так воспринимаю, просто записываю, понимаешь? Вот так они и получаются. Наверное, это не прозаический все-таки текст, потому что прозаический текст – это какая-то длительность, это переход из сцены в сцену, это развертка какая-то, да? Здесь, конечно, не прозаическая цель была передо мной, а вот эта одна вспышка зрения такая, как в поэзии – попытаться написать правду сиюминутную: вот я вышла, увидела… Это, конечно, поэтическая цель. С этой точки зрения, наверное, книжка поэтическая.
Но я ничего этого не думала, конечно, когда это писала. Более того, я же продолжаю вести дневники и продолжаю это всё записывать. И из того, что я сейчас пишу и раньше писала, сделаю что-то новое. Наверное, это будет такая же по природе книга. Но, конечно же, я не думала никогда: поэт я или прозаик?
На том берегу есть дерево, в котором летом засыпает солнце. Если смотреть внимательно, можно сквозь раскаленные добела ветви разглядеть, как оно закрывает глаза и тихо гаснет – словно подглядываешь в окошко за каким-нибудь праздником.

ВГ: Конечно! Я о том, к чему мы приходим постфактум. Почему я вообще об этом заговорил? Меня очень волнует соотношение слова прозаического и слова поэтического. Я могу точно сказать о поэзии: есть тенденция к прозаизации – со всеми негативными коннотациями. Поэтический текст превращается в небольшую прозаическую зарисовку – холодную, сухую, аналитическую. А твоя книга каждым предложением, каждой клеткой тянется к поэтическому полюсу, к свету [смеется]…
ДС: Это такая вот сфера света, да. По-твоему, это для прозы современной вообще не типично?
ВГ: Илья намного больше меня следит за современной прозой. Но я таких современных книг больше не знаю. Надеюсь, еще найдутся!
ДС: Вот мы с вами сидим здесь, понимаете, вчетвером, и все вместе удивляемся отдельно существующей от нас всех четверых книге, которая такая получилась. Посмотрим, удастся ли дальше идти в этом ключе. Самое теперь интересное: вот она написалась такая, как какое-то отдельное существо живет. И вот я думаю, мы с ней сможем как-то дальше быть вместе или мы навсегда с ней разделились? Вот я Даша, я хожу на работу, живу свою жизнь. А вот она такая вся поэтическая и тянется к свету, как ты выражаешься. Мне очень хочется вместе с ней продолжать тянуться к свету. И, конечно, теперь, когда она есть, у меня есть за что цепляться, чтобы меня не снесло куда-то не туда.
Но у нас сложные отношения с ней, действительно, потому что она такая давнишняя… И с тех пор как она появилась, я всё время хожу и думаю. Ведь всё это продолжает вокруг меня вращаться. Я продолжаю из-за этого мучиться. И надо же продолжать что-то делать, нельзя сидеть сложа руки, надо продолжать, очень хочется продолжать, но я не знаю, получится ли.
ВГ: Честно говоря, в названии я сначала не особо обратил внимание на слово теорема, мне ближе, конечно, слово тишина. Твоя книжка сразу встала в один ряд с дорогими мне Жуковским, Тютчевым, Мандельштамом…
ДС: Извини, я вклинюсь. Почему меня смешит это название? Я всегда вспоминаю рассказ Набокова «Адмиралтейская игла»: он там издевается над писателем в том числе за то, что название так чётко вписывается в четырёхстопный ямб. А тут у нас четырехстопный хорей. И вот я все время смотрю на это название, думаю: Набоков бы поржал над ним [смеется]!
На днях, в русской библиотеке, загнанной безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали три-четыре новинки, – между прочим, Ваш роман «Адмиралтейская Игла». Заглавие ладное, – хотя бы потому, что это четырехстопный ямб, не правда ли, – и притом знаменитый. Но вот это-то ладное заглавие и не предвещало ничего доброго… – фрагмент рассказа Владимира Набокова «Адмиралтейская игла».
ВГ: Набокову иногда лишь бы поиздеваться!.. Да, ты меня поразила названием. История про мистификацию, честно говоря, мимо меня прошла.
ДС: Я очень рада, потому что всех почему-то зацепила именно эта история. И мне как-то обидно это, потому что она была вокруг сочинена просто, это был инструмент, а не самоцель. Конечно, было весело поиграть в мистификацию, но не более того.
ВГ: Действительно, эта история с мистификацией увлекательная, но мне становится обидно за сам роман: он сам по себе очень сильный, ему не нужны эти костыли. Когда я перечитывал его, у меня было ощущение, что я даже не домой вернулся, а в мое место силы – сад бабушки с дедушкой.
Пространство в твоем романе – абсолютно разное, такое, какое ты сам захочешь. В этом отношении интересны первые страницы, которые на удивление неприветливые. Они у меня срезонировали с началом «Записок из подполья»: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек». А потом начинается совсем другое, словно ты вошел в сферу света, сияния.
ДС: Мне, наверное, утрирование его мрачного характера было нужно. Я же вовсе не профессиональный писатель: вот как оно писалось, так писалось. Я не знала, как получится, я не знала, что там дальше будет. И чтобы понять поточнее, насколько реально плохи его дела, насколько он погряз в самом себе, я, наверное, специально вначале прям педалировала его ворчливый характер. Потом он оказался, конечно, не такой противный, но все равно брюзга.
Понятное дело, что это я вытащила из себя мысль, которая меня в тот момент пугала: отказ от всего, от внешнего мира. Я подумала, пусть будет какой-то отдельный человек, в котором это будет доведено до предела. Что вообще может с ним случиться? И вот такого я нарисовала мрачного героя. Но я даже не представляю, как он выглядит, сколько ему лет…
ВГ: Да, мы же вообще про него ничего не знаем!
ДС: И это специально так, он таким и остался. И вот он со мной начал сам разговаривать вначале. Я его представила и подумала: расскажи мне, насколько ты сошел с ума. Вот эти самые первые пять страниц, о которых ты говоришь. А потом я подпустила всех остальных к нему. А дальше стала за ними наблюдать.
Я придумала ситуацию. Подумала: вот что будет, если… Это моя любимая вообще тема: какие-то книги, в которых есть сломанный первичный, базовый физический или логический закон. При этом ничего не объясняется: почему так, зачем так, – ничего не объясняется, просто персонажи помещены в этот мир, и мы смотрим, что с ними происходит.
И вот я подумала, сломаю-ка я пространство, пусть они все живут каждый в своем мире. Я придумала миры, персонажей, запустила их всех туда и стала смотреть, как у них складываются отношения, у кого с кем чего получается, вот. Это все достаточно интуитивно тоже, я не придумывала практически ничего. Там сюжета-то нет. Я не умею придумывать сюжеты. И мне это не очень интересно, честно говоря.
ВГ: Там есть хороший сюжет, как он ходит в магазин, например [смеется]!
ДС: Или как они ловят собаку непонятно где [смеется]!
ИФ: Это отличие от современной прозы в том плане, что она вся очень сюжетная, сценарная сейчас. И ты читаешь иногда романы, и это как будто сразу готовые сценарии. А у тебя сходство с Сашей Соколовым: ты можешь читать с любого места, и тебя захватывает стиль, умение держать поток языка. Флобер говорил, что хочет написать книгу, которая держится на одном стиле.
ДС: Да, и у него это получалось.
ИФ: Сейчас этот навык теряется у писателей, потому что они думают про другое, они думают не про язык…
ДС: … А про то, как потом это будет экранизировано. Я очень часто про это пишу в рецензиях, я сама это очень хорошо вижу: любая книжка мгновенно развертывается в кино. Как будто писатели вообще забыли о том, что они занимаются языком, что они занимаются искусством другого толка: это искусство слова, это другая субстанция, другие законы, кайф другой вообще от этого. И хочется, открывая книгу, читать книгу, а не представлять себе фильм на экране.
ИФ: Они сценарий материализуют, они берут сценарий и делают из этого роман.
ВГ: Вот мы могли бы сейчас с тобой построить весь разговор о пространстве или о времени в романе, у тебя в нем есть фраза «от времени можно спастись только пространством». И говорили бы об этом часами, там есть, что обсудить. Но нам просто интереснее сегодня поговорить о другом. Это и есть сила «Теоремы тишины» – это мощный текст, как к нему ни подойди.
ДС: Наверное, так получилось, потому что я не делала упор ни на какие сильные стороны. Несмотря на то, что она очень далека от реалистичности, что в ней что-то сломано, что она магическая отчасти и вообще не похожа на реальную жизнь, мне очень хотелось сказать правду. Если это хотя бы где-то, хотя бы на каких-то страницах получилось: читаешь, и вот действительно так оно и есть – мир так выглядит и так слышится – то и слава богу.
Книга в первую очередь про правду. Её очень трудно поймать, очень трудно. Просто у меня был какой-то период в жизни, когда я не только видела, но мне удавалось иногда что-то записать. И потом, когда это перечитывала, я видела, что похоже получилось. Я перечитываю, оно вроде как встаёт перед глазами точно так, как это было тогда. Хотя это очень трудно, потому что там же много из чего складывается, не только из картинки.
И про сюжеты. Сначала, когда я начинала, пробовала что-то писать в детстве, во взрослом возрасте, я думала: ну вот, придумала вот это. Но ведь я же должна сочинить историю, я должна рассказать какую-то историю, иначе мне не на что наматывать то, что я хочу сказать. Потом я поняла, что я просто не могу сочинять истории, наверное, и смирилась с этим. И бог с ними – с историями. Мне это не надо.
ВГ: Мне близки твои слова. Сейчас все гонятся за нарративом, особенно это заметно в стихах: почему бы не превратить стихотворение в небольшой рассказ? Может, для начала, потому что это совсем другой природы текст?
ДС: Я не думаю, что мне стоит писать стихи, не думаю, что у меня это будет получаться. Просто вот такое у меня письмо.
ВГ: То, что получается у тебя, не получается почти ни у кого в современной литературе. Так что твоя священная обязанность перед русском культурой – продолжать [смеется]!
ДС: Вижу, обложку твоей книги русская культура прикусила уже [смеется]!
ВГ: Слегка, да! Я эту книгу с собой где только не таскал уже. Знаешь, давай перейдем к каким-нибудь глупостям. В самом начале романа сам хозяин говорит, что он раньше приходил в лес с сушеными ананасами, и потом, по-моему, Лидия говорит о том же. К чему эти ананасы? Это из твоей жизни история?
ДС: Да, когда ездила по лесам как раз в те времена, я любила взять в термосе кофе, ананасы, сесть под сосну…
ВГ: Значит, это ты над собой смеешься?
ДС: Да, конечно. И в какой-то момент я просто сижу, ем этот ананас, думаю: «А дальше что? Что я сделала для русской культуры?» [Смеется.] Поскольку, конечно, Лидия с Хозяином в какой-то момент параллелизируются, Лидии кажется, что она все поняла, а Хозяину кажется, что он божество, хотя он-то как раз ничего не понимает, а Лидия зато понимает вообще все на свете, слишком много она понимает! Но это ей только кажется: кажется, что она влюбилась, но ни в кого она не влюбилась, просто это место позволяет ей забыть про время, забыть про то, что её мучает больше всего постоянно. И вот ей кажется, что она что-то поняла про этот лес, и он в итоге такой искусственный появляется у неё в конце.
У Лидии у единственной из всех есть развитие, она действительно что-то приняла там под конец, но на тот момент, когда упоминаются ананасы, она, конечно, еще не принимает лес: ей не нравилось, ей противно это было, она не понимала, зачем это надо, никакой красоты она не видела, а ведь она же метит туда, тоже в «лесные жители». Эти ананасы как бы показывают, что она не врубается, что она не здешняя: даже если ее посадить в лес, она все равно будет не там, пока не там. Нужно бы, кстати, возродить мне эту традицию с ананасами [смеется]!
ВГ: Забавная деталь про Ланцелота – он знаток поэзии!
ДС: Он же рыцарь тоже, как и мы с вами тут. Он такой смешной получился. Вообще с ними интересно было очень, потому что они все оказались не такие, какими я представляла их изначально. Вот Ланцелот, я думаю – он рыцарь, современный рыцарь: в косухе, с хвостом, нечесаный такой, психопат абсолютный! Он там проклинает всяческий феминизм, но при этом защищает Лидию всю дорогу, потому что он не может не защищать, это у него в крови, он заступается за неё, потому что он рыцарь.
Профессор же… В какой-то момент я легла в саду поспать, и явился мне сон, и я поняла, что надо им всем дать слово. Удивительно, что мне это не приходило в голову раньше, это же мой любимый литературный приём! «Лунный камень», например, в котором одну и ту же историю рассказывают разные персонажи, каждый со своей точки зрения. И оказалось, что мои персонажи вообще другие, не такие, какими я их представляла сначала. И особенно Профессор, он оказался вообще другой. Сначала он был похож на мою бабушку: забавный, немножко нелепый. А он оказался злой, язвительный, циничный! Он всех видит насквозь! Он вспомнил факты из моего детства, которые я забыла: про рожок мороженщика, например, я забыла об этом, и вдруг он мне об этом напомнил. И в итоге мне пришлось в начало возвращаться, его переписывать немножко. Потому что так он вообще не вязался с изначальным образом. И мне он очень понравился именно такой, каким он оказался, когда он мне сам про себя рассказал.
Они были просто именами, кличками. А потом, как сахарная вата, обрастали слоями, превращались в живых.
ИФ: Сначала ты сказала, что в основе были дневники, а уже потом ты придумала историю. А сейчас, по твоим рассказам, я понимаю, что эти герои жили в тебе. Вот тут-то магия и случилась. Здесь книга состоялась – дневники превратились в книгу.
ДС: Я не просто надёргала из дневников каких-то листочков, положила их и подумала: каким сахарным сиропом это залить? Нет, конечно, я просто знала, что мне надо это всё как-то использовать. Это буквально одно предложение то тут, то там. Вот весна, я иду в лес: меня торкает от этого леса каждый день – первый день, второй – на третий день мне удается написать одно предложение удачное на эту тему. Через ещё три дня удается побольше написать. Из всего этого потом я подгребала материал. Я до сих пор так со своими дневниками работаю: это такое огромное собрание сочинений Достоевского [смеется], я их выдергиваю, значит, по тетрадкам, беру, что-то подчеркиваю, загибаю уголочки, потом к этому возвращаюсь, когда мне это надо куда-то. Потому что ты, если сядешь за стол и скажешь себе – вот сейчас я должен написать про весенний лес, – ты так не напишешь никогда.
ВГ: У Пришвина, кажется, дневники в восемнадцати томах изданы.
ДС: Да, Пришвин в этом смысле интересный персонаж.
ВГ: Архетипичное описание природы, которое обычно вспоминают, всегда – патока, перебор. А ты потрясающе чувствуешь грань, когда вот-вот, еще чуть-чуть, и будет уже перебор, но ты никогда не перегибаешь. У тебя замечательное чувство равновесия!
ДС: Это такая вот сфера света, да. По-твоему, это для прозы современной вообще не типично?
ВГ: Илья намного больше меня следит за современной прозой. Но я таких современных книг больше не знаю. Надеюсь, еще найдутся!
ДС: Вот мы с вами сидим здесь, понимаете, вчетвером, и все вместе удивляемся отдельно существующей от нас всех четверых книге, которая такая получилась. Посмотрим, удастся ли дальше идти в этом ключе. Самое теперь интересное: вот она написалась такая, как какое-то отдельное существо живет. И вот я думаю, мы с ней сможем как-то дальше быть вместе или мы навсегда с ней разделились? Вот я Даша, я хожу на работу, живу свою жизнь. А вот она такая вся поэтическая и тянется к свету, как ты выражаешься. Мне очень хочется вместе с ней продолжать тянуться к свету. И, конечно, теперь, когда она есть, у меня есть за что цепляться, чтобы меня не снесло куда-то не туда.
Но у нас сложные отношения с ней, действительно, потому что она такая давнишняя… И с тех пор как она появилась, я всё время хожу и думаю. Ведь всё это продолжает вокруг меня вращаться. Я продолжаю из-за этого мучиться. И надо же продолжать что-то делать, нельзя сидеть сложа руки, надо продолжать, очень хочется продолжать, но я не знаю, получится ли.
ВГ: Честно говоря, в названии я сначала не особо обратил внимание на слово теорема, мне ближе, конечно, слово тишина. Твоя книжка сразу встала в один ряд с дорогими мне Жуковским, Тютчевым, Мандельштамом…
ДС: Извини, я вклинюсь. Почему меня смешит это название? Я всегда вспоминаю рассказ Набокова «Адмиралтейская игла»: он там издевается над писателем в том числе за то, что название так чётко вписывается в четырёхстопный ямб. А тут у нас четырехстопный хорей. И вот я все время смотрю на это название, думаю: Набоков бы поржал над ним [смеется]!
На днях, в русской библиотеке, загнанной безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали три-четыре новинки, – между прочим, Ваш роман «Адмиралтейская Игла». Заглавие ладное, – хотя бы потому, что это четырехстопный ямб, не правда ли, – и притом знаменитый. Но вот это-то ладное заглавие и не предвещало ничего доброго… – фрагмент рассказа Владимира Набокова «Адмиралтейская игла».
ВГ: Набокову иногда лишь бы поиздеваться!.. Да, ты меня поразила названием. История про мистификацию, честно говоря, мимо меня прошла.
ДС: Я очень рада, потому что всех почему-то зацепила именно эта история. И мне как-то обидно это, потому что она была вокруг сочинена просто, это был инструмент, а не самоцель. Конечно, было весело поиграть в мистификацию, но не более того.
ВГ: Действительно, эта история с мистификацией увлекательная, но мне становится обидно за сам роман: он сам по себе очень сильный, ему не нужны эти костыли. Когда я перечитывал его, у меня было ощущение, что я даже не домой вернулся, а в мое место силы – сад бабушки с дедушкой.
Пространство в твоем романе – абсолютно разное, такое, какое ты сам захочешь. В этом отношении интересны первые страницы, которые на удивление неприветливые. Они у меня срезонировали с началом «Записок из подполья»: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек». А потом начинается совсем другое, словно ты вошел в сферу света, сияния.
ДС: Мне, наверное, утрирование его мрачного характера было нужно. Я же вовсе не профессиональный писатель: вот как оно писалось, так писалось. Я не знала, как получится, я не знала, что там дальше будет. И чтобы понять поточнее, насколько реально плохи его дела, насколько он погряз в самом себе, я, наверное, специально вначале прям педалировала его ворчливый характер. Потом он оказался, конечно, не такой противный, но все равно брюзга.
Понятное дело, что это я вытащила из себя мысль, которая меня в тот момент пугала: отказ от всего, от внешнего мира. Я подумала, пусть будет какой-то отдельный человек, в котором это будет доведено до предела. Что вообще может с ним случиться? И вот такого я нарисовала мрачного героя. Но я даже не представляю, как он выглядит, сколько ему лет…
ВГ: Да, мы же вообще про него ничего не знаем!
ДС: И это специально так, он таким и остался. И вот он со мной начал сам разговаривать вначале. Я его представила и подумала: расскажи мне, насколько ты сошел с ума. Вот эти самые первые пять страниц, о которых ты говоришь. А потом я подпустила всех остальных к нему. А дальше стала за ними наблюдать.
Я придумала ситуацию. Подумала: вот что будет, если… Это моя любимая вообще тема: какие-то книги, в которых есть сломанный первичный, базовый физический или логический закон. При этом ничего не объясняется: почему так, зачем так, – ничего не объясняется, просто персонажи помещены в этот мир, и мы смотрим, что с ними происходит.
И вот я подумала, сломаю-ка я пространство, пусть они все живут каждый в своем мире. Я придумала миры, персонажей, запустила их всех туда и стала смотреть, как у них складываются отношения, у кого с кем чего получается, вот. Это все достаточно интуитивно тоже, я не придумывала практически ничего. Там сюжета-то нет. Я не умею придумывать сюжеты. И мне это не очень интересно, честно говоря.
ВГ: Там есть хороший сюжет, как он ходит в магазин, например [смеется]!
ДС: Или как они ловят собаку непонятно где [смеется]!
ИФ: Это отличие от современной прозы в том плане, что она вся очень сюжетная, сценарная сейчас. И ты читаешь иногда романы, и это как будто сразу готовые сценарии. А у тебя сходство с Сашей Соколовым: ты можешь читать с любого места, и тебя захватывает стиль, умение держать поток языка. Флобер говорил, что хочет написать книгу, которая держится на одном стиле.
ДС: Да, и у него это получалось.
ИФ: Сейчас этот навык теряется у писателей, потому что они думают про другое, они думают не про язык…
ДС: … А про то, как потом это будет экранизировано. Я очень часто про это пишу в рецензиях, я сама это очень хорошо вижу: любая книжка мгновенно развертывается в кино. Как будто писатели вообще забыли о том, что они занимаются языком, что они занимаются искусством другого толка: это искусство слова, это другая субстанция, другие законы, кайф другой вообще от этого. И хочется, открывая книгу, читать книгу, а не представлять себе фильм на экране.
ИФ: Они сценарий материализуют, они берут сценарий и делают из этого роман.
ВГ: Вот мы могли бы сейчас с тобой построить весь разговор о пространстве или о времени в романе, у тебя в нем есть фраза «от времени можно спастись только пространством». И говорили бы об этом часами, там есть, что обсудить. Но нам просто интереснее сегодня поговорить о другом. Это и есть сила «Теоремы тишины» – это мощный текст, как к нему ни подойди.
ДС: Наверное, так получилось, потому что я не делала упор ни на какие сильные стороны. Несмотря на то, что она очень далека от реалистичности, что в ней что-то сломано, что она магическая отчасти и вообще не похожа на реальную жизнь, мне очень хотелось сказать правду. Если это хотя бы где-то, хотя бы на каких-то страницах получилось: читаешь, и вот действительно так оно и есть – мир так выглядит и так слышится – то и слава богу.
Книга в первую очередь про правду. Её очень трудно поймать, очень трудно. Просто у меня был какой-то период в жизни, когда я не только видела, но мне удавалось иногда что-то записать. И потом, когда это перечитывала, я видела, что похоже получилось. Я перечитываю, оно вроде как встаёт перед глазами точно так, как это было тогда. Хотя это очень трудно, потому что там же много из чего складывается, не только из картинки.
И про сюжеты. Сначала, когда я начинала, пробовала что-то писать в детстве, во взрослом возрасте, я думала: ну вот, придумала вот это. Но ведь я же должна сочинить историю, я должна рассказать какую-то историю, иначе мне не на что наматывать то, что я хочу сказать. Потом я поняла, что я просто не могу сочинять истории, наверное, и смирилась с этим. И бог с ними – с историями. Мне это не надо.
ВГ: Мне близки твои слова. Сейчас все гонятся за нарративом, особенно это заметно в стихах: почему бы не превратить стихотворение в небольшой рассказ? Может, для начала, потому что это совсем другой природы текст?
ДС: Я не думаю, что мне стоит писать стихи, не думаю, что у меня это будет получаться. Просто вот такое у меня письмо.
ВГ: То, что получается у тебя, не получается почти ни у кого в современной литературе. Так что твоя священная обязанность перед русском культурой – продолжать [смеется]!
ДС: Вижу, обложку твоей книги русская культура прикусила уже [смеется]!
ВГ: Слегка, да! Я эту книгу с собой где только не таскал уже. Знаешь, давай перейдем к каким-нибудь глупостям. В самом начале романа сам хозяин говорит, что он раньше приходил в лес с сушеными ананасами, и потом, по-моему, Лидия говорит о том же. К чему эти ананасы? Это из твоей жизни история?
ДС: Да, когда ездила по лесам как раз в те времена, я любила взять в термосе кофе, ананасы, сесть под сосну…
ВГ: Значит, это ты над собой смеешься?
ДС: Да, конечно. И в какой-то момент я просто сижу, ем этот ананас, думаю: «А дальше что? Что я сделала для русской культуры?» [Смеется.] Поскольку, конечно, Лидия с Хозяином в какой-то момент параллелизируются, Лидии кажется, что она все поняла, а Хозяину кажется, что он божество, хотя он-то как раз ничего не понимает, а Лидия зато понимает вообще все на свете, слишком много она понимает! Но это ей только кажется: кажется, что она влюбилась, но ни в кого она не влюбилась, просто это место позволяет ей забыть про время, забыть про то, что её мучает больше всего постоянно. И вот ей кажется, что она что-то поняла про этот лес, и он в итоге такой искусственный появляется у неё в конце.
У Лидии у единственной из всех есть развитие, она действительно что-то приняла там под конец, но на тот момент, когда упоминаются ананасы, она, конечно, еще не принимает лес: ей не нравилось, ей противно это было, она не понимала, зачем это надо, никакой красоты она не видела, а ведь она же метит туда, тоже в «лесные жители». Эти ананасы как бы показывают, что она не врубается, что она не здешняя: даже если ее посадить в лес, она все равно будет не там, пока не там. Нужно бы, кстати, возродить мне эту традицию с ананасами [смеется]!
ВГ: Забавная деталь про Ланцелота – он знаток поэзии!
ДС: Он же рыцарь тоже, как и мы с вами тут. Он такой смешной получился. Вообще с ними интересно было очень, потому что они все оказались не такие, какими я представляла их изначально. Вот Ланцелот, я думаю – он рыцарь, современный рыцарь: в косухе, с хвостом, нечесаный такой, психопат абсолютный! Он там проклинает всяческий феминизм, но при этом защищает Лидию всю дорогу, потому что он не может не защищать, это у него в крови, он заступается за неё, потому что он рыцарь.
Профессор же… В какой-то момент я легла в саду поспать, и явился мне сон, и я поняла, что надо им всем дать слово. Удивительно, что мне это не приходило в голову раньше, это же мой любимый литературный приём! «Лунный камень», например, в котором одну и ту же историю рассказывают разные персонажи, каждый со своей точки зрения. И оказалось, что мои персонажи вообще другие, не такие, какими я их представляла сначала. И особенно Профессор, он оказался вообще другой. Сначала он был похож на мою бабушку: забавный, немножко нелепый. А он оказался злой, язвительный, циничный! Он всех видит насквозь! Он вспомнил факты из моего детства, которые я забыла: про рожок мороженщика, например, я забыла об этом, и вдруг он мне об этом напомнил. И в итоге мне пришлось в начало возвращаться, его переписывать немножко. Потому что так он вообще не вязался с изначальным образом. И мне он очень понравился именно такой, каким он оказался, когда он мне сам про себя рассказал.
Они были просто именами, кличками. А потом, как сахарная вата, обрастали слоями, превращались в живых.
ИФ: Сначала ты сказала, что в основе были дневники, а уже потом ты придумала историю. А сейчас, по твоим рассказам, я понимаю, что эти герои жили в тебе. Вот тут-то магия и случилась. Здесь книга состоялась – дневники превратились в книгу.
ДС: Я не просто надёргала из дневников каких-то листочков, положила их и подумала: каким сахарным сиропом это залить? Нет, конечно, я просто знала, что мне надо это всё как-то использовать. Это буквально одно предложение то тут, то там. Вот весна, я иду в лес: меня торкает от этого леса каждый день – первый день, второй – на третий день мне удается написать одно предложение удачное на эту тему. Через ещё три дня удается побольше написать. Из всего этого потом я подгребала материал. Я до сих пор так со своими дневниками работаю: это такое огромное собрание сочинений Достоевского [смеется], я их выдергиваю, значит, по тетрадкам, беру, что-то подчеркиваю, загибаю уголочки, потом к этому возвращаюсь, когда мне это надо куда-то. Потому что ты, если сядешь за стол и скажешь себе – вот сейчас я должен написать про весенний лес, – ты так не напишешь никогда.
ВГ: У Пришвина, кажется, дневники в восемнадцати томах изданы.
ДС: Да, Пришвин в этом смысле интересный персонаж.
ВГ: Архетипичное описание природы, которое обычно вспоминают, всегда – патока, перебор. А ты потрясающе чувствуешь грань, когда вот-вот, еще чуть-чуть, и будет уже перебор, но ты никогда не перегибаешь. У тебя замечательное чувство равновесия!
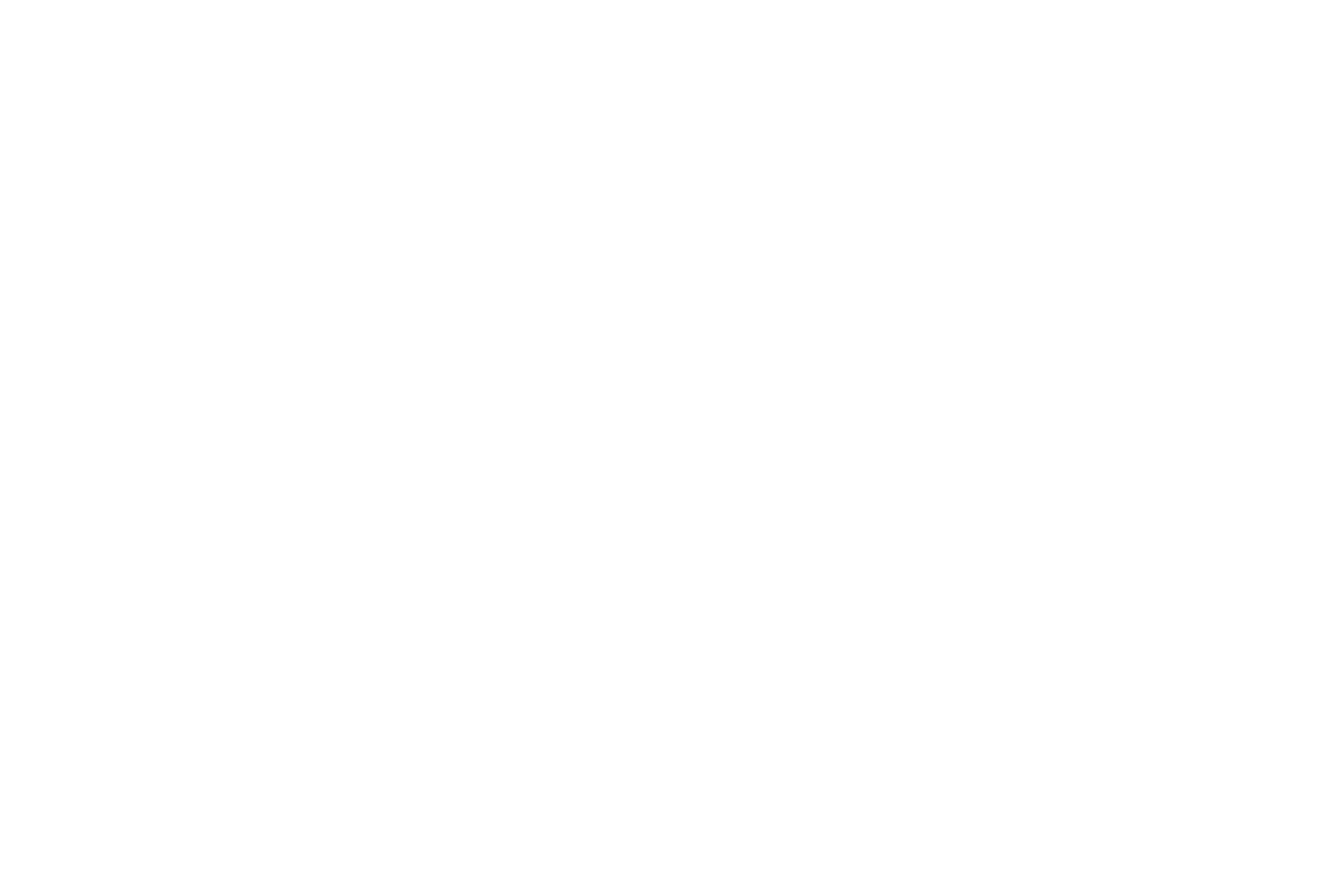
И ты живешь в нем, незаметный и тихий, гремишь кастрюлями и лейками, и лес вокруг привыкает к тому, что ты постукиваешь где-то у него внутри, как какая-нибудь птица или белка, и начинает прятать тебя, так же как их, за тишиной, в запахе; крыльцо твое засыпано сосновыми иголками и высохшей волчьей ягодой, а в окна видно, как деревья величаво передают друг другу корону солнца, без споров, без тоски и без зависти, и каждое из них царит всего четверть часа, серебряное, пронизанное солнцем, такое великолепное, что ни одна мшинка во всем лесу не пожелает оспаривать это вековечное царствование. И ты сам, подобно всему, что только населяет лес, с какой-то древней влюбленностью глядишь в окно на эту неземную ель или сосну.
ДС: Это, видимо, то, что появилось уже с годами, потому что я много убрала, там были прямо лишние места – слащавость, всякие перекосы. Хоть какой-то смысл в том, что я стала старше!
ВГ: У Аронзона есть потрясающее стихотворение:
Пойдемте: снег упал на землю.
Моностих. Все, больше ничего не нужно! В «Теореме тишины» ты много говоришь о первом снеге.
ДС: У меня первый снег в этом году случился на Урале – сегодня, 22 марта. Хотела первый снег, вот, получай [смеется].
ИФ: Ты говорила, будто «стала глупее»; это не связано с тем, что в свои двадцать, условно, ты смотришь Тарковского, Бергмана, читаешь самых важных философов, круг чтения у тебя действительно суперстрогий, а сейчас тебе нравится то, что нравится. Эти вещи не связаны?
ДС: Да нет, я бы не сказала. Может быть, острота и, главное, масштаб восприятия в то время был больше, просто потому что было двадцать, больше времени и сил было на это всё. Но я бы не сказала, что… Просто у меня был, повторюсь, такой вот отрезок времени, когда я не только воспринимала, но и могла как-то зафиксировать. Вот, а потом это хуже стало получаться. Сейчас вроде как опять нормально пошло – посмотрим.
НЧ: В двадцать мы чувствительнее, действительно, острота восприятия иная, и внутренняя жизнь, быть может, активнее в нас была.
ДС: Я была взвинченная немножко, но в двадцать все более взвинченные, чем в тридцать. Но мы не будем терять надежды! У Окуджавы моего любимого есть песня про весну:
В назначенный час заиграет трубач,
что есть нам удача средь всех неудач,
что мы все еще молодые,
и крылья у нас золотые.
ВГ: У тебя в книге несколько раз проговаривается максима – созерцать не размышляя. Насколько тебе это близко?
ДС: Сейчас ловчее стало получаться, а тогда это, скорее, было мое скептическое отношение к герою: он немножко тупой, а Лидия на него смотрит, и она завидует ему, что он может так жить, а она нет. И он не просто может так жить, а он вокруг себя создал мир, в котором может жить так, как ему хочется. Лидия всё время, значит, в рефлексии, она совершенно задолбалась, а он… То есть, конечно, на самом деле Хозяин и размышляет, и что-то чувствует, но просто это глубоко скрыто. А она всё время на электрическом стуле сидит, и поэтому ей кажется: я тут на электрическом стуле, а он, значит, созерцает не размышляя, вот как ему это удаётся?! Я бы не сказала, что это идеальное состояние, но боюсь, что я в него сама впадаю сейчас немножко.
ВГ: Это можно трактовать как очень восточную историю: состояние просветления, светлой отрешённости.
ДС: Ну да, но мне бы не хотелось так. Хотя, наверное, здорово, когда ты существуешь, словно Бог – это твой сосед, он тоже с вилами ходит, чем-то гремит, сжигает мусор в бочке, и ты тоже сжигаешь за забором мусор в бочке, и вы оба ни о чём не думаете. Вы просто делаете дела, и благодаря этому есть мир.
ВГ: У Аронзона есть потрясающее стихотворение:
Пойдемте: снег упал на землю.
Моностих. Все, больше ничего не нужно! В «Теореме тишины» ты много говоришь о первом снеге.
ДС: У меня первый снег в этом году случился на Урале – сегодня, 22 марта. Хотела первый снег, вот, получай [смеется].
ИФ: Ты говорила, будто «стала глупее»; это не связано с тем, что в свои двадцать, условно, ты смотришь Тарковского, Бергмана, читаешь самых важных философов, круг чтения у тебя действительно суперстрогий, а сейчас тебе нравится то, что нравится. Эти вещи не связаны?
ДС: Да нет, я бы не сказала. Может быть, острота и, главное, масштаб восприятия в то время был больше, просто потому что было двадцать, больше времени и сил было на это всё. Но я бы не сказала, что… Просто у меня был, повторюсь, такой вот отрезок времени, когда я не только воспринимала, но и могла как-то зафиксировать. Вот, а потом это хуже стало получаться. Сейчас вроде как опять нормально пошло – посмотрим.
НЧ: В двадцать мы чувствительнее, действительно, острота восприятия иная, и внутренняя жизнь, быть может, активнее в нас была.
ДС: Я была взвинченная немножко, но в двадцать все более взвинченные, чем в тридцать. Но мы не будем терять надежды! У Окуджавы моего любимого есть песня про весну:
В назначенный час заиграет трубач,
что есть нам удача средь всех неудач,
что мы все еще молодые,
и крылья у нас золотые.
ВГ: У тебя в книге несколько раз проговаривается максима – созерцать не размышляя. Насколько тебе это близко?
ДС: Сейчас ловчее стало получаться, а тогда это, скорее, было мое скептическое отношение к герою: он немножко тупой, а Лидия на него смотрит, и она завидует ему, что он может так жить, а она нет. И он не просто может так жить, а он вокруг себя создал мир, в котором может жить так, как ему хочется. Лидия всё время, значит, в рефлексии, она совершенно задолбалась, а он… То есть, конечно, на самом деле Хозяин и размышляет, и что-то чувствует, но просто это глубоко скрыто. А она всё время на электрическом стуле сидит, и поэтому ей кажется: я тут на электрическом стуле, а он, значит, созерцает не размышляя, вот как ему это удаётся?! Я бы не сказала, что это идеальное состояние, но боюсь, что я в него сама впадаю сейчас немножко.
ВГ: Это можно трактовать как очень восточную историю: состояние просветления, светлой отрешённости.
ДС: Ну да, но мне бы не хотелось так. Хотя, наверное, здорово, когда ты существуешь, словно Бог – это твой сосед, он тоже с вилами ходит, чем-то гремит, сжигает мусор в бочке, и ты тоже сжигаешь за забором мусор в бочке, и вы оба ни о чём не думаете. Вы просто делаете дела, и благодаря этому есть мир.
Я вышел на крыльцо, заставленное резиновыми башмаками всевозможных размеров, и подумал, что летом по обуви сразу было видно, кто есть кто. А теперь все ходят в калошах и сапогах – и дело с концом. И все равно даже в сапогах выходишь в сад и тут же поскальзываешься на раскисшем яблоке или кленовом листе. В Ланцелотовых калошах, самых огромных, сидела крохотная синичка и что-то ворчливо бормотала себе под нос, а потом испугалась меня и улетела. И во всем она, осенняя неустойчивость, которую я люблю больше всего на свете, без которой не смог бы удержать равновесие на этом обрыве мой дом.
Текст интервью к публикации подготовил Вячеслав Глазырин.
Читайте другие материалы на нашем сайте.
Фотографии с презентации "Теоремы тишины" в книжном магазине Буквально, Екатеринург - Вячеслав Лужецкий
Автор иллюстрации – У Чаньянь (吴婵艳)
Читайте другие материалы на нашем сайте.
Фотографии с презентации "Теоремы тишины" в книжном магазине Буквально, Екатеринург - Вячеслав Лужецкий
Автор иллюстрации – У Чаньянь (吴婵艳)