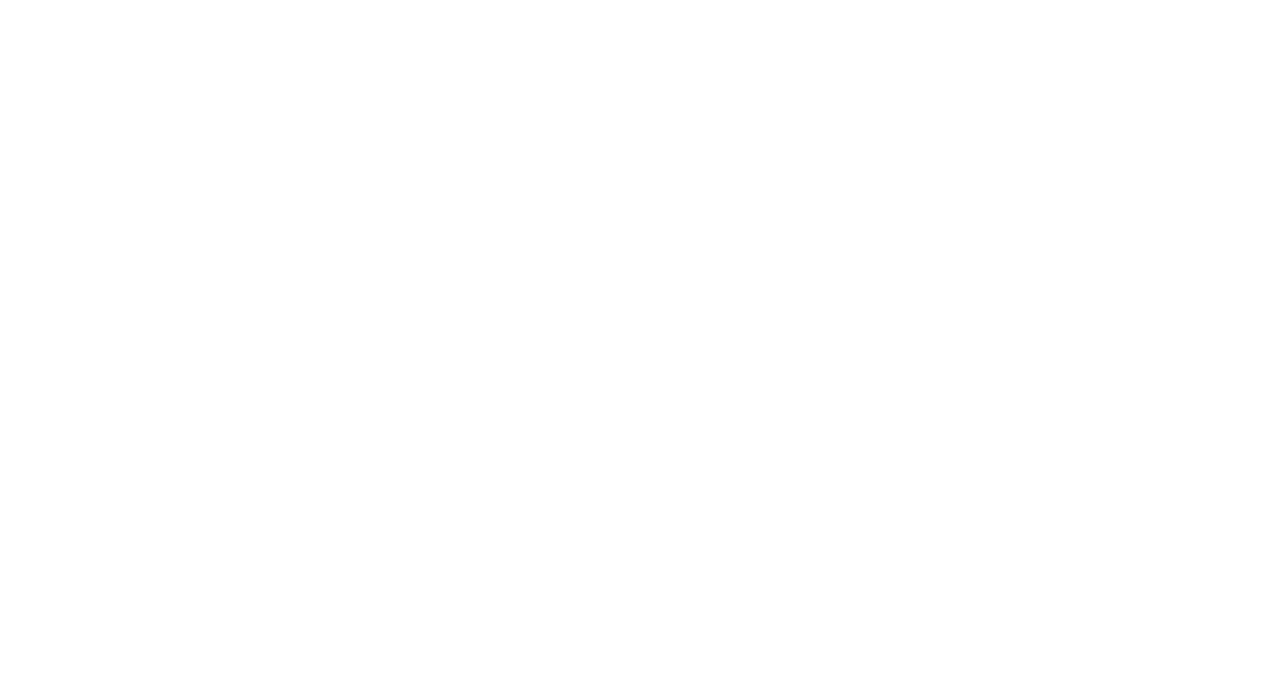эссе
СОНЕТЫ ЛЕОНИДА АРОНЗОНА
В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ
В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ
Валерий Шубинский
В поэтическом наследии Леонида Аронзона сонеты занимают особое место. П.А. Казарновский в недавно вышедшей книге «”Изображение рая”: поэтика созерцания Леонида Аронзона» (НЛО, 2025) насчитывает в корпусе поэта 42 четырнадцатистрочных стихотворения, так или иначе построенных по сонетным принципам (имея в виду соответствующую систему рифмовки и/или риторическую и интонационную структуру текста). Кроме того, Казарновский выделяет у Аронзона ряд «сонетов под маской», которые, не укладываясь в формальные рамки сонета, содержат отсылку к сонетной форме. Углубленному анализу этой формы у поэта посвящена отдельная глава фундаментальной монографии Казарновского. Однако, в силу особенностей избранной им методики, он сознательно сосредотачивается на изолирующем «медленном чтении» сонетов Аронзона, не погружаясь сколько-нибудь подробно в литературный контекст. В связи с этим, возможно, будет не лишним дополнить его глубокий и содержательный анализ несколькими наблюдениями.
Сонетная форма (имеющая, как известно, богатейшую историю в итальянской, французской, английской поэзии) в Россию пришла уже в 1750-е годы (опыты Сумарокова и Хераскова), но некоторое развитие получила лишь в пушкинскую эпоху. Тем не менее и тогда в русской поэзии не появилось значимых монументальных текстов, подобных, скажем, «Крымским сонетам» Мицкевича. В корпусе Пушкина, как все мы помним, лишь три сонета. Тема одного из них – сонет, форма, имеющая богатую историю (от Данте до Мицкевича), но экзотическая для русской поэзии. Основоположником ее в России Пушкин называет Дельвига, но и у того в корпусе стихотворений лишь шесть сонетов, из них в основном авторском собрании – четыре. Больше сонетов (девять) у другого лицейского товарища Пушкина – у Кюхельбекера, но почти все они написаны в 1829-1846 годы и Пушкину известны не были. По нескольку сонетов есть у Баратынского, Катенина, Василия Туманского, Подолинского, один у молодого Лермонтова – но в целом мы не можем говорить о сонетной форме как о характерной для Золотого века. 14-стиховая онегинская строфа массовым читательским сознанием как сонет не опознается (хотя в определенном смысле им является). В середине XIX века к сонету систематически обращался, кажется, только Аполлон Григорьев («К Титании»). Постромантический культ сонета как строгой, безличной, «холодной» формы отозвался в России только творчеством Петра Бутурлина, поэта далеко не первого ряда, предпочитавшего сонетную форму – и уже в 1890-е годы. Использование сонета в «низком» жанре, в сатирических стихах «скандалиста» Виктора Буренина – еще одно нехарактерное исключение.
Таким образом, сонетная форма в русской поэзии ассоциируется (в отличие от других европейских литератур) главным образом не с классикой, а с ранним «высоким» модернизмом (в рамках которого эта форма если и была отсылкой к классическому наследию, то к иностранному). У символистов и их сверстников классическая итальянская или французская сонетная форма сочеталась по меньшей мере с подчеркнутой «парнасской» изысканностью фактуры (как у Брюсова или Волошина – но даже и у Бунина), в других случаях – с экзотической стилизованностью и архаизированностью языка (Вячеслав Иванов) или, наконец, с модернистской сложностью, многослойностью образа (Анненский). В сущности, это относится и к акмеистам, чье обращение к сонету носит не столь систематический характер. В общем и целом можно сказать, что сонетная форма в России в этот период отсылает не столько к Петрарке, Ронсару и Шекспиру, сколько к Эредиа и Малларме.
Демонстративный «аристократизм» этой формы полностью исключил ее бытование в традиционалистском сегменте советской поэзии 1930-1950-х. Однако именно это исключение сделало возможным эпизодическое обращение к сонетной форме (в порядке формальной игры) советских поэтов, чей статус внутри официальной культуры предполагал право на некоторую изысканность и на определенные эксперименты – «фокусников» вроде Ильи Сельвинского (написавшего «односложный» сонет – практически одновременно с таким же сонетом Ходасевича) или Семена Кирсанова, собственно, укорененных в футуристической традиции. За пределами СССР мы видим в те же годы несравнимо более последовательное обращение к сонетной форме (в сочетании с экспериментальной графикой и нестандартной фактурой стиха) у бывшего радикального футуриста Ильи Зданевича.
Для широкого читателя среднесоветской эпохи сонетная форма ассоциировалась прежде всего с переводными стихами – например, с вошедшими в широкий оборот (чему свидетельства – музыкальные переложения, вошедшие в репертуар Аллы Пугачевой, и бесчисленные травестийные вариации) сонетами Шекспира в переводах Самуила Маршака. На эти образцы ориентировались официальные советские поэты 1960-70-х годов, изредка (крайне редко) обращавшиеся к сонетной форме (Михаил Дудин, Владимир Солоухин, Новелла Матвеева). Чаще эту форму пытались, обычно неуспешно, воспроизвести стихотворцы-дилетанты (один из характерных примеров – лирические опыты Ю. В. Андропова).
Тем неожиданней ренессанс сонетной формы в поэзии неподцензурной или во всяком случае стремящейся к независимости. Причем лишь в сравнительно редких случаях обращение к этой форме представляет собой оммаж высокой лирической традиции Серебряного века. Можно вспомнить несколько сонетов Арсения Тарковского – который как раз был одним из последних носителей этой традиции. Один из них (1958) входит в диптих, написанный на смерть Николая Заболоцкого. Приведем его – так как неизбежно напрашивается параллель с написанным десятилетием позже «Сонетом душе и трупу Н. Заболоцкого» Аронзона. Итак, вот Тарковский:
За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.
Листва, трава – все было слишком живо,
Как будто лупу кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.
Вернулся я домой, и вымыл руки,
И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,
Проникшем в комнату из-за окна,
И в сумерках, нависших как в предгрозье,
Без всякого бессмертья, в грубой прозе
И наготе стояла смерть одна.
А вот Аронзон:
Есть легкий дар, как будто во второй
счастливый раз он повторяет опыт.
(Легки и гибки образные тропы
высоких рек, что подняты горой!)
Однако мне отпущен дар другой:
подчас стихи – изнеможенья шепот,
и нету сил зарифмовать Европу,
не говоря уже, чтоб справиться с игрой.
Увы, всегда постыден будет труд,
где, хорошея, ро́заны цветут,
где, озвучив дыханием свирели
своих кларнетов, барабанов, труб,
все музицируют – растения и звери,
корнями душ разваливая труп!
Легко заметить, что два сонета содержат противоположные дискурсы: у Тарковского смерть в своей «наготе» противопоставляется «слишком живой» посюсторонней жизни как единственная истина – а альтернатива ей отсутствует в принципе; у Аронзона эта живая жизнь побеждает, обессмысливая своей естественностью, однако, и труд художника (художника «сальерианского» типа, что явно больше относится к Заболоцкому, чем к самому Аронзону). Однако обратим внимание на структуру текста. У Тарковского лирическая мысль (содержащая тезу, правда, умещающуюся в первые две строки, антитезу и синтез) естественно и благородно укладывается в сонетную форму, которая не проблематизирована. У Аронзона мы тоже видим традиционную риторическую схему, но сама сонетная форма становится объектом игры на грани автопародии: поэт, утверждающий, что у него «нету сил зарифмовать Европу», выносит это слово на рифму (причем в русской традиции предполагается рифма обсценная). Сама рифмовка содержит дополнительную игру (с которой поэт якобы «не может справиться») – повторяющаяся рифма неточная, но в действительности содержит в себе две точных (или почти точных) рифмы: опыт-тропы-шепот-Европу; такая же рифмическая «двусмысленность» содержится в терцетах: труд-цветут-свирели-труб-звери-труп. Это можно прочитать как эклектическое сочетание итальянской (ааbaab) и французской (abaaba) форм завершения сонета, но от внутреннего созвучия труб-труб-труп тоже не уйти. Все это создает ощущение некоторой «закавыченности», «игры в сонет».
В сущности, эти два сонета задают полюса. Тарковский продолжает свою (естественно вытекающую из принятой им на себя культурной функции) «завершающую» роль в таких сонетах, как «Рукопись» (1960), «И это снится мне, и это снилось мне....» (1974), «Тот жил и умер, та жила...» (1975). Бродский примеряет ее на себя в сонетах 1964 года «Прислушиваясь к грозным голосам...» и «Выбрасывая на берег словарь...». Однако даже в этих стихотворениях Бродского сонетная форма проблематизируется за счет присущего поэту разветвленного синтаксиса – его знаменитых анжамбеманов. Так, во втором сонете (посвященном Ахматовой) второй катрен и начало первого терцета представляют собой одну фразу, которая естественным образом риторически развивает тему, заданную первым катреном (он же первая фраза) и противопоставляется последней фразе-антитезе, охватывающей третью строчку первого терцета и второй терцет. Таким образом, в сонете есть два не совпадающих и накладывающихся друг на друга членения: – строфическое и синтаксическое, что, заметим, более чем характерно для Бродского:
Выбрасывая на берег словарь,
злоречьем торжествуя над удушьем,
пусть море осаждает календарь
со всех сторон: минувшим и грядущим.
Швыряя в стекла пригоршней янтарь,
осенним днем, за стеклами ревущим,
и гребнем, ослепительно цветущим,
когда гремит за окнами январь,
захлестывая дни, – пускай гудит,
сжимает сердце и в глаза глядит.
Но, подступая к самому лицу,
оно уступит в блеске своенравном
седому, серебристому венцу,
взнесенному над тернием и лавром!
Однако даже такого рода модифицированные стилизации были скорее исключением, нежели правилом – в том числе и собственно у Бродского. Сонет воспринимается скорее как искусственная, «острая» и в то же время несколько архаичная форма, употребление которой оправдывается перспективами ее деформации и остранения. В творчестве поэтов, ориентированных на широко понимаемую постакмеистическую традицию и в то же время нацеленных на естественное и неконфликтное существование в языковом пространстве советской поэзии (Давид Самойлов, Вадим Шефнер, Александр Кушнер, Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев, Семен Липкин), сонет не представлен. И наоборот: «Сонеты на рубашках» пишет неутомимый авангардист-экспериментатор Генрих Сапгир, венок сонетов создает в 1974 году
Как же поэты трансформируют сонетную форму? Бродский в 1960-1970 годы пишет как минимум десять сонетов, кроме двух упомянутых выше. Практически все они так или иначе экспериментальны. Это может быть ориентированный на звукопись экспрессивный минимализм («Переживи всех....», 1960 – этот сонет мог бы написать Кирсанов), это может быть детский «сонетик». Но интереснее всего семь сонетов, написанных белым ямбом. При отсутствии рифмовки очевидно, что сонетная конструкция может поддерживаться только на уровне риторики. Однако, по крайней мере на первый взгляд, это далеко не всегда так. Бродский именно в этих сонетах избегает традиционно свойственной сонету системы риторических противопоставлений, выстраивая текст скорее по законам элегии, но «дисциплинируя» его 14-строчной формой. Яркий пример – самое знаменитое из стихотворений этого типа, – «Postscriptum» (1967):
Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существованье для тебя.
…В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения… Увы,
тому, кто не способен заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.
Здесь нет тезы и антитезы, а есть заданная формула («тезис»), который иллюстрируется реалистической или метафорической картиной безответного телефонного звонка. В другом сонете – «Пришел январь за стенами тюрьмы...» – мы слышим предполагаемый диалог двух людей – умершего и услышавшего о его смерти, маркированный разделением между первым катреном и остальным текстом.
Наконец, «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» – фактически поэма с развивающимся автобиографическим сюжетом, в котором сонет является строфой (как в «Онегине» – но Бродский намеренно подчеркивает это заглавием). Используя разные формы и виды сонета (в том числе «сплошной сонет» с непрерывной рифмовкой), поэт изощренно «дискредитирует» эту форму сниженной лексикой и каламбурами («и входит айне кляйне нахт мужик, внося мордоворот в косоворотке») или (так же, как Аронзон в «Сонете душе и трупу Н.Заболоцкого») изощренно демонстрируя свое якобы неумение подобрать уместную рифму:
Пером простым – неправда, что мятежным!
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
a) был ли он учеником прилежным,
b) новую для русского среду,
c) слабость к окончаниям падежным.
В Непале есть столица Катманду.
Сапгир в предисловии к «Сонетам на рубашках» так описывает историю создания цикла:
«В детстве я упражнялся в писании сонетов и даже венков. Одну строку я помню: "Как умирает лес весь бледнозолотой!"
В 1975 году мне снова захотелось испробовать емкость и силу поэмы, состоящей всего из 14 строк.<...> Название книги "Сонеты на рубашках" возникло так. Осенью 1975 года на ВДНХ была вынужденно организована выставка левых художников, где участвовали и мои друзья. Нашей – во многом еще неискушенной публике – мне захотелось показать образцы визуальной поэзии. Две моих старых рубашки пошли в дело. Красным фломастером на их полотняных спинах я начертил два сонета: "Тело" и "Дух". Так мои рубашки и повесили – на плечиках в павильоне – одна над другой»1.
Перед нами замечательный в своей культурологической выразительности сюжет. Юный Сапгир был учеником одного из эпигонов символизма, – Арсения Альвинга, и сам писал (в начале сороковых!) сонеты в позднесимволистской традиции. Став авангардистом, он в зрелые годы вернулся к сонетной форме, но в рамках авангардного проекта. Сонет получил право на существование как объект визуальной поэзии. Впоследствии эта визуальная форма стала воображаемой, однако она сама по себе оправдывала видимый «архаизм». Обратившись к тексту сонетов, мы видим, что Сапгир, на первый взгляд строго соблюдая форму и риторическую структуру сонета (при этом отказываясь от большинства знаков препинания!), тем не менее постоянно экспериментирует с ней и «пробует ее на разрыв». Вот, например, завершение сонета «Дух»:
Есть! пойман!.. Нет! Еще ты дремлешь в стебле
Но как я одинок на самом деле
Ведь это я всё я – жасмин и моль и солнца свет
В башке поэта шалого от пьянства
Ни времени не знаю ни пространства
И изнутри трясу его сонет
Здесь все работает на остранение формы: и нарушение ритма (которое соответствует содержанию: дух «изнутри трясет сонет»), и полуироническая цитата из Фета. Типично сапгировские эксперименты: – «Фриз разрушенный» (только вторая половина строк), «Фриз восстановленный» и «Лингвистические сонеты».
В сущности, у разных поэтов мы видим два варианта рефлексии. Первый – по отношению к сонетной форме. Так, «Венок сонетов» Сосноры представляет собой лирический (любовный) цикл, состоящий из пятнадцати четырнадцатистиший, состоящих, в свою очередь, из двух пятистиший и катрена, причем в каждом пятистишии либо первая, либо последняя строчка усечена; последний сонет вовсе не состоит из первых/последних строк предыдущих, как этого, казалось бы, требует канон. Каждый сонет должен начинаться с последней строки предыдущего – но вот как подходит к этой задаче Соснора:
Так сердце спит. Так я себя травлю.
Так в бездне зла в святилища не верь.
Мсти, жено, мне за молодость твою,
за безвозвратность без меня! Но ведь
10
навет?..
Но ты – не ревность. Потому терпеть
и нам ноябрь. И нянчиться в тепле
с балтийской болью (или бьется нерв?).
Мсти, жено, мне, что ты со мной теперь.
У Виктора Кривулина есть «продленный» сонет. Молодой Олег Юрьев в 1979 году пишет цикл «Эпигонские сонеты». Каждый из 14 сонетов состоит из четырех терцетов и двустишия. Соответственно структура поэтической мысли и ее членение выстраиваются не так, как в классическом сонете. Особенно характерен в этом смысле сонет «Кузнец, что разворачивал обед...» – единственный, включенный поэтом в авторский свод 1984 года:
Кузнец, что разворачивал обед
У наковальни, в темноте и блеске,
Был выделен из суеты и бед.
Его жена вела узор на блузке
И, улыбаясь, думала: «Ну вот,
Опять мои одежи станут узки».
Муж, горлом двигая, допил компот;
Не сведши глаз с синеющей полоски:
«Он будет лучшей из моих работ!»
Жена его черпнула слив из миски
И вспомнила того, кто был обут
Со звоном, по-кавалерийски.
Дым долетал из кузни за горою,
Ждал меч Ахилл, ждала погибель Трою
Здесь чередуются фрагменты внутренних монологов «кузнеца» (Гефеста) и его жены (Афродиты), – а финальное двустишие раскрывает подразумеваемый сюжет, задает мифологический синтез тезы и антитезы.
Стихотворение Юрьева «Этот город не Рим. Мужеложцев пурпурные тоги....» (1980) представляет собой сдвоенный сонет, состоящий из двух восьмистиший и трех катренов. И здесь мы видим четкую риторическую структуру: заданный тезис («этот город не Рим») в первом восьмистишии, его парадоксальное развитие («это город не Рим» во втором), антитеза («Это Рим, говорю...») в двух катренах – и меланхолический синтез-завершение в финале.
Другой путь заключался в травестировании тематики и языка. Собственно, в других литературах такая традиция есть («вульгарные» сонеты на римском диалекте Джоакино Белли), – но в русской поэзии она создается заново. Здесь уместно вспомнить цикл из двух английских («шекспировских») сонетов Олега Григорьева, озаглавленный автором «Шекспирт» и снабженный издевательскими подзаголовками: – «Сонет 301» и «Сонет 302» (тогда как у Шекспира, напомним, их всего 154). Как и некоторые из «сонетов к Смуглой леди», они носят откровенно эротический характер, но это (особенно в первом сонете) характерная для Григорьева подчеркнуто наивная (и в то же время метафизически наполненная) эротика; язык, которым пользуется поэт, не похож на возвышенный язык классического сонета:
...И наслажденье, и страданье,
Икры любовной волдыри,
Сиянье звезд и мирозданье –
Всё где-то там, в ее нутри.
В какой-то малой спирохете
Весь мир со звездами и дети.
В знаменитом сонете Александра Еременко «В густых металлургических лесах....» (1980) сонетная форма сочетается с подчеркнуто технократической лексикой, – которой описывается, однако, мир живой природы:
В густых металлургических лесах,
где шел процесс созданья хлорофилла,
сорвался лист. Уж осень наступила
в густых металлургических лесах.
Там до весны завязли в небесах
и бензовоз, и мушка дрозофила.
Их жмет по равнодействующей сила,
они застряли в сплющенных часах.
Последний филин сломан и распилен
и, кнопкой канцелярскою пришпилен
к осенней ветке книзу головой,
висит и размышляет головой,
зачем в него с такой ужасной силой
вмонтирован бинокль полевой?
Мы видим здесь, однако, не только провоцирующую лексику, но и тавтологическую рифму, пародирующую сонетную структуру, и нерифмующуюся (и при том пародийную по патетической интонации) предпоследнюю строку. В других сонетах Еременко прибегает к другим экспериментам (в частности, первым после Бродского пишет сонет без рифм).
Наконец, можно вспомнить сонет Евгения Мякишева «Тусовка» (1986), написанный на ленинградском молодежном сленге («Зааскай мне файфовый, в тусовке на Климате ломко...»).
Таким образом, сонеты Аронзона надо воспринимать именно в этом контексте – контексте остранения, переосмысления сонетной формы, испытания ее на разрыв, которое входило в круг интересов скорее «новаторов», а не «традиционалистов» – что бы под этим не подразумевалось. В чем же особенность его пути? Очертим наиболее важные с нашей точки зрения тенденции, предельно кратко, чтобы не повторять сказанного в книге Казарновского.
Во-первых, само обращение к закрытой сонетной форме у Аронзона связано с его отношением к поэтическому времени (стремлением к его сворачиванию и в идеале остановке) и зацикленностью на идее повторности. И то, и другое резко и радикально отличает его от Бродского. Поэтому если у Бродского конец сонета всегда открыт, формула если и задается, то в начале (см. выше приведенный «Postscriptum»), то Аронзон почти всегда стремится замкнуть лирическое пространство.
Во-вторых, темой сонетов Аронзона в ряде случаев становится сам процесс сочинения данного сонета («Забытый сонет», «Погода – дождь. Взирая на свечу....») – на фоне бессонницы и меланхолии. Таким образом, «остранение» формы доходит до предела, и, возможно, у другого поэта эта «бессодержательность» сигнализировала бы о внутренней незначительности текста. Но не у Аронзона, с его стремлением к кольцеобразности и культом «пустоты» и «молчания». Сонет «Есть между всем молчание. Одно....» может восприниматься как его поэтический манифест: молчание, зияние, пустота дают простор для максимально масштабного смысла:
Чем более ячейка, тем крупней
размер души, запутавшейся в ней.
Любой улов обильный будет мельче,
чем у ловца, посмеющего сметь
гигантскую связать такую сеть,
в которой бы была одна ячейка!
В «Пустом сонете» эту открытость засловесным смыслам воплощает сама графика одной из редакций. Цитируя Казарновского: «Увлеченный восточным миросозерцанием, Аронзон вполне мог встречать утверждения, что форма есть порядок, а пустота («шуньята») есть форма. Форма и пустота представляют собой два аспекта одной реальности, сосуществуя друг с другом и пребывая в постоянном взаимодействии»2. Это, однако, не единственный характерный для Аронзона вариант остранения сонетной формы. Близким, но не тождественным вариантом является демонстративная тавтологичность (знаменитые «Два одинаковых сонета»).
Хочется надеяться, что эти наблюдения над историко-культурным контекстом позволят увидеть какие-то новые аспекты отношения поэта к сонетной форме – как сближающие Аронзона с современниками, так и уникальные именно для его поэтики.
Сонетная форма (имеющая, как известно, богатейшую историю в итальянской, французской, английской поэзии) в Россию пришла уже в 1750-е годы (опыты Сумарокова и Хераскова), но некоторое развитие получила лишь в пушкинскую эпоху. Тем не менее и тогда в русской поэзии не появилось значимых монументальных текстов, подобных, скажем, «Крымским сонетам» Мицкевича. В корпусе Пушкина, как все мы помним, лишь три сонета. Тема одного из них – сонет, форма, имеющая богатую историю (от Данте до Мицкевича), но экзотическая для русской поэзии. Основоположником ее в России Пушкин называет Дельвига, но и у того в корпусе стихотворений лишь шесть сонетов, из них в основном авторском собрании – четыре. Больше сонетов (девять) у другого лицейского товарища Пушкина – у Кюхельбекера, но почти все они написаны в 1829-1846 годы и Пушкину известны не были. По нескольку сонетов есть у Баратынского, Катенина, Василия Туманского, Подолинского, один у молодого Лермонтова – но в целом мы не можем говорить о сонетной форме как о характерной для Золотого века. 14-стиховая онегинская строфа массовым читательским сознанием как сонет не опознается (хотя в определенном смысле им является). В середине XIX века к сонету систематически обращался, кажется, только Аполлон Григорьев («К Титании»). Постромантический культ сонета как строгой, безличной, «холодной» формы отозвался в России только творчеством Петра Бутурлина, поэта далеко не первого ряда, предпочитавшего сонетную форму – и уже в 1890-е годы. Использование сонета в «низком» жанре, в сатирических стихах «скандалиста» Виктора Буренина – еще одно нехарактерное исключение.
Таким образом, сонетная форма в русской поэзии ассоциируется (в отличие от других европейских литератур) главным образом не с классикой, а с ранним «высоким» модернизмом (в рамках которого эта форма если и была отсылкой к классическому наследию, то к иностранному). У символистов и их сверстников классическая итальянская или французская сонетная форма сочеталась по меньшей мере с подчеркнутой «парнасской» изысканностью фактуры (как у Брюсова или Волошина – но даже и у Бунина), в других случаях – с экзотической стилизованностью и архаизированностью языка (Вячеслав Иванов) или, наконец, с модернистской сложностью, многослойностью образа (Анненский). В сущности, это относится и к акмеистам, чье обращение к сонету носит не столь систематический характер. В общем и целом можно сказать, что сонетная форма в России в этот период отсылает не столько к Петрарке, Ронсару и Шекспиру, сколько к Эредиа и Малларме.
Демонстративный «аристократизм» этой формы полностью исключил ее бытование в традиционалистском сегменте советской поэзии 1930-1950-х. Однако именно это исключение сделало возможным эпизодическое обращение к сонетной форме (в порядке формальной игры) советских поэтов, чей статус внутри официальной культуры предполагал право на некоторую изысканность и на определенные эксперименты – «фокусников» вроде Ильи Сельвинского (написавшего «односложный» сонет – практически одновременно с таким же сонетом Ходасевича) или Семена Кирсанова, собственно, укорененных в футуристической традиции. За пределами СССР мы видим в те же годы несравнимо более последовательное обращение к сонетной форме (в сочетании с экспериментальной графикой и нестандартной фактурой стиха) у бывшего радикального футуриста Ильи Зданевича.
Для широкого читателя среднесоветской эпохи сонетная форма ассоциировалась прежде всего с переводными стихами – например, с вошедшими в широкий оборот (чему свидетельства – музыкальные переложения, вошедшие в репертуар Аллы Пугачевой, и бесчисленные травестийные вариации) сонетами Шекспира в переводах Самуила Маршака. На эти образцы ориентировались официальные советские поэты 1960-70-х годов, изредка (крайне редко) обращавшиеся к сонетной форме (Михаил Дудин, Владимир Солоухин, Новелла Матвеева). Чаще эту форму пытались, обычно неуспешно, воспроизвести стихотворцы-дилетанты (один из характерных примеров – лирические опыты Ю. В. Андропова).
Тем неожиданней ренессанс сонетной формы в поэзии неподцензурной или во всяком случае стремящейся к независимости. Причем лишь в сравнительно редких случаях обращение к этой форме представляет собой оммаж высокой лирической традиции Серебряного века. Можно вспомнить несколько сонетов Арсения Тарковского – который как раз был одним из последних носителей этой традиции. Один из них (1958) входит в диптих, написанный на смерть Николая Заболоцкого. Приведем его – так как неизбежно напрашивается параллель с написанным десятилетием позже «Сонетом душе и трупу Н. Заболоцкого» Аронзона. Итак, вот Тарковский:
За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.
Листва, трава – все было слишком живо,
Как будто лупу кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.
Вернулся я домой, и вымыл руки,
И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,
Проникшем в комнату из-за окна,
И в сумерках, нависших как в предгрозье,
Без всякого бессмертья, в грубой прозе
И наготе стояла смерть одна.
А вот Аронзон:
Есть легкий дар, как будто во второй
счастливый раз он повторяет опыт.
(Легки и гибки образные тропы
высоких рек, что подняты горой!)
Однако мне отпущен дар другой:
подчас стихи – изнеможенья шепот,
и нету сил зарифмовать Европу,
не говоря уже, чтоб справиться с игрой.
Увы, всегда постыден будет труд,
где, хорошея, ро́заны цветут,
где, озвучив дыханием свирели
своих кларнетов, барабанов, труб,
все музицируют – растения и звери,
корнями душ разваливая труп!
Легко заметить, что два сонета содержат противоположные дискурсы: у Тарковского смерть в своей «наготе» противопоставляется «слишком живой» посюсторонней жизни как единственная истина – а альтернатива ей отсутствует в принципе; у Аронзона эта живая жизнь побеждает, обессмысливая своей естественностью, однако, и труд художника (художника «сальерианского» типа, что явно больше относится к Заболоцкому, чем к самому Аронзону). Однако обратим внимание на структуру текста. У Тарковского лирическая мысль (содержащая тезу, правда, умещающуюся в первые две строки, антитезу и синтез) естественно и благородно укладывается в сонетную форму, которая не проблематизирована. У Аронзона мы тоже видим традиционную риторическую схему, но сама сонетная форма становится объектом игры на грани автопародии: поэт, утверждающий, что у него «нету сил зарифмовать Европу», выносит это слово на рифму (причем в русской традиции предполагается рифма обсценная). Сама рифмовка содержит дополнительную игру (с которой поэт якобы «не может справиться») – повторяющаяся рифма неточная, но в действительности содержит в себе две точных (или почти точных) рифмы: опыт-тропы-шепот-Европу; такая же рифмическая «двусмысленность» содержится в терцетах: труд-цветут-свирели-труб-звери-труп. Это можно прочитать как эклектическое сочетание итальянской (ааbaab) и французской (abaaba) форм завершения сонета, но от внутреннего созвучия труб-труб-труп тоже не уйти. Все это создает ощущение некоторой «закавыченности», «игры в сонет».
В сущности, эти два сонета задают полюса. Тарковский продолжает свою (естественно вытекающую из принятой им на себя культурной функции) «завершающую» роль в таких сонетах, как «Рукопись» (1960), «И это снится мне, и это снилось мне....» (1974), «Тот жил и умер, та жила...» (1975). Бродский примеряет ее на себя в сонетах 1964 года «Прислушиваясь к грозным голосам...» и «Выбрасывая на берег словарь...». Однако даже в этих стихотворениях Бродского сонетная форма проблематизируется за счет присущего поэту разветвленного синтаксиса – его знаменитых анжамбеманов. Так, во втором сонете (посвященном Ахматовой) второй катрен и начало первого терцета представляют собой одну фразу, которая естественным образом риторически развивает тему, заданную первым катреном (он же первая фраза) и противопоставляется последней фразе-антитезе, охватывающей третью строчку первого терцета и второй терцет. Таким образом, в сонете есть два не совпадающих и накладывающихся друг на друга членения: – строфическое и синтаксическое, что, заметим, более чем характерно для Бродского:
Выбрасывая на берег словарь,
злоречьем торжествуя над удушьем,
пусть море осаждает календарь
со всех сторон: минувшим и грядущим.
Швыряя в стекла пригоршней янтарь,
осенним днем, за стеклами ревущим,
и гребнем, ослепительно цветущим,
когда гремит за окнами январь,
захлестывая дни, – пускай гудит,
сжимает сердце и в глаза глядит.
Но, подступая к самому лицу,
оно уступит в блеске своенравном
седому, серебристому венцу,
взнесенному над тернием и лавром!
Однако даже такого рода модифицированные стилизации были скорее исключением, нежели правилом – в том числе и собственно у Бродского. Сонет воспринимается скорее как искусственная, «острая» и в то же время несколько архаичная форма, употребление которой оправдывается перспективами ее деформации и остранения. В творчестве поэтов, ориентированных на широко понимаемую постакмеистическую традицию и в то же время нацеленных на естественное и неконфликтное существование в языковом пространстве советской поэзии (Давид Самойлов, Вадим Шефнер, Александр Кушнер, Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев, Семен Липкин), сонет не представлен. И наоборот: «Сонеты на рубашках» пишет неутомимый авангардист-экспериментатор Генрих Сапгир, венок сонетов создает в 1974 году
Как же поэты трансформируют сонетную форму? Бродский в 1960-1970 годы пишет как минимум десять сонетов, кроме двух упомянутых выше. Практически все они так или иначе экспериментальны. Это может быть ориентированный на звукопись экспрессивный минимализм («Переживи всех....», 1960 – этот сонет мог бы написать Кирсанов), это может быть детский «сонетик». Но интереснее всего семь сонетов, написанных белым ямбом. При отсутствии рифмовки очевидно, что сонетная конструкция может поддерживаться только на уровне риторики. Однако, по крайней мере на первый взгляд, это далеко не всегда так. Бродский именно в этих сонетах избегает традиционно свойственной сонету системы риторических противопоставлений, выстраивая текст скорее по законам элегии, но «дисциплинируя» его 14-строчной формой. Яркий пример – самое знаменитое из стихотворений этого типа, – «Postscriptum» (1967):
Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существованье для тебя.
…В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения… Увы,
тому, кто не способен заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.
Здесь нет тезы и антитезы, а есть заданная формула («тезис»), который иллюстрируется реалистической или метафорической картиной безответного телефонного звонка. В другом сонете – «Пришел январь за стенами тюрьмы...» – мы слышим предполагаемый диалог двух людей – умершего и услышавшего о его смерти, маркированный разделением между первым катреном и остальным текстом.
Наконец, «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» – фактически поэма с развивающимся автобиографическим сюжетом, в котором сонет является строфой (как в «Онегине» – но Бродский намеренно подчеркивает это заглавием). Используя разные формы и виды сонета (в том числе «сплошной сонет» с непрерывной рифмовкой), поэт изощренно «дискредитирует» эту форму сниженной лексикой и каламбурами («и входит айне кляйне нахт мужик, внося мордоворот в косоворотке») или (так же, как Аронзон в «Сонете душе и трупу Н.Заболоцкого») изощренно демонстрируя свое якобы неумение подобрать уместную рифму:
Пером простым – неправда, что мятежным!
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
a) был ли он учеником прилежным,
b) новую для русского среду,
c) слабость к окончаниям падежным.
В Непале есть столица Катманду.
Сапгир в предисловии к «Сонетам на рубашках» так описывает историю создания цикла:
«В детстве я упражнялся в писании сонетов и даже венков. Одну строку я помню: "Как умирает лес весь бледнозолотой!"
В 1975 году мне снова захотелось испробовать емкость и силу поэмы, состоящей всего из 14 строк.<...> Название книги "Сонеты на рубашках" возникло так. Осенью 1975 года на ВДНХ была вынужденно организована выставка левых художников, где участвовали и мои друзья. Нашей – во многом еще неискушенной публике – мне захотелось показать образцы визуальной поэзии. Две моих старых рубашки пошли в дело. Красным фломастером на их полотняных спинах я начертил два сонета: "Тело" и "Дух". Так мои рубашки и повесили – на плечиках в павильоне – одна над другой»1.
Перед нами замечательный в своей культурологической выразительности сюжет. Юный Сапгир был учеником одного из эпигонов символизма, – Арсения Альвинга, и сам писал (в начале сороковых!) сонеты в позднесимволистской традиции. Став авангардистом, он в зрелые годы вернулся к сонетной форме, но в рамках авангардного проекта. Сонет получил право на существование как объект визуальной поэзии. Впоследствии эта визуальная форма стала воображаемой, однако она сама по себе оправдывала видимый «архаизм». Обратившись к тексту сонетов, мы видим, что Сапгир, на первый взгляд строго соблюдая форму и риторическую структуру сонета (при этом отказываясь от большинства знаков препинания!), тем не менее постоянно экспериментирует с ней и «пробует ее на разрыв». Вот, например, завершение сонета «Дух»:
Есть! пойман!.. Нет! Еще ты дремлешь в стебле
Но как я одинок на самом деле
Ведь это я всё я – жасмин и моль и солнца свет
В башке поэта шалого от пьянства
Ни времени не знаю ни пространства
И изнутри трясу его сонет
Здесь все работает на остранение формы: и нарушение ритма (которое соответствует содержанию: дух «изнутри трясет сонет»), и полуироническая цитата из Фета. Типично сапгировские эксперименты: – «Фриз разрушенный» (только вторая половина строк), «Фриз восстановленный» и «Лингвистические сонеты».
В сущности, у разных поэтов мы видим два варианта рефлексии. Первый – по отношению к сонетной форме. Так, «Венок сонетов» Сосноры представляет собой лирический (любовный) цикл, состоящий из пятнадцати четырнадцатистиший, состоящих, в свою очередь, из двух пятистиший и катрена, причем в каждом пятистишии либо первая, либо последняя строчка усечена; последний сонет вовсе не состоит из первых/последних строк предыдущих, как этого, казалось бы, требует канон. Каждый сонет должен начинаться с последней строки предыдущего – но вот как подходит к этой задаче Соснора:
Так сердце спит. Так я себя травлю.
Так в бездне зла в святилища не верь.
Мсти, жено, мне за молодость твою,
за безвозвратность без меня! Но ведь
10
навет?..
Но ты – не ревность. Потому терпеть
и нам ноябрь. И нянчиться в тепле
с балтийской болью (или бьется нерв?).
Мсти, жено, мне, что ты со мной теперь.
У Виктора Кривулина есть «продленный» сонет. Молодой Олег Юрьев в 1979 году пишет цикл «Эпигонские сонеты». Каждый из 14 сонетов состоит из четырех терцетов и двустишия. Соответственно структура поэтической мысли и ее членение выстраиваются не так, как в классическом сонете. Особенно характерен в этом смысле сонет «Кузнец, что разворачивал обед...» – единственный, включенный поэтом в авторский свод 1984 года:
Кузнец, что разворачивал обед
У наковальни, в темноте и блеске,
Был выделен из суеты и бед.
Его жена вела узор на блузке
И, улыбаясь, думала: «Ну вот,
Опять мои одежи станут узки».
Муж, горлом двигая, допил компот;
Не сведши глаз с синеющей полоски:
«Он будет лучшей из моих работ!»
Жена его черпнула слив из миски
И вспомнила того, кто был обут
Со звоном, по-кавалерийски.
Дым долетал из кузни за горою,
Ждал меч Ахилл, ждала погибель Трою
Здесь чередуются фрагменты внутренних монологов «кузнеца» (Гефеста) и его жены (Афродиты), – а финальное двустишие раскрывает подразумеваемый сюжет, задает мифологический синтез тезы и антитезы.
Стихотворение Юрьева «Этот город не Рим. Мужеложцев пурпурные тоги....» (1980) представляет собой сдвоенный сонет, состоящий из двух восьмистиший и трех катренов. И здесь мы видим четкую риторическую структуру: заданный тезис («этот город не Рим») в первом восьмистишии, его парадоксальное развитие («это город не Рим» во втором), антитеза («Это Рим, говорю...») в двух катренах – и меланхолический синтез-завершение в финале.
Другой путь заключался в травестировании тематики и языка. Собственно, в других литературах такая традиция есть («вульгарные» сонеты на римском диалекте Джоакино Белли), – но в русской поэзии она создается заново. Здесь уместно вспомнить цикл из двух английских («шекспировских») сонетов Олега Григорьева, озаглавленный автором «Шекспирт» и снабженный издевательскими подзаголовками: – «Сонет 301» и «Сонет 302» (тогда как у Шекспира, напомним, их всего 154). Как и некоторые из «сонетов к Смуглой леди», они носят откровенно эротический характер, но это (особенно в первом сонете) характерная для Григорьева подчеркнуто наивная (и в то же время метафизически наполненная) эротика; язык, которым пользуется поэт, не похож на возвышенный язык классического сонета:
...И наслажденье, и страданье,
Икры любовной волдыри,
Сиянье звезд и мирозданье –
Всё где-то там, в ее нутри.
В какой-то малой спирохете
Весь мир со звездами и дети.
В знаменитом сонете Александра Еременко «В густых металлургических лесах....» (1980) сонетная форма сочетается с подчеркнуто технократической лексикой, – которой описывается, однако, мир живой природы:
В густых металлургических лесах,
где шел процесс созданья хлорофилла,
сорвался лист. Уж осень наступила
в густых металлургических лесах.
Там до весны завязли в небесах
и бензовоз, и мушка дрозофила.
Их жмет по равнодействующей сила,
они застряли в сплющенных часах.
Последний филин сломан и распилен
и, кнопкой канцелярскою пришпилен
к осенней ветке книзу головой,
висит и размышляет головой,
зачем в него с такой ужасной силой
вмонтирован бинокль полевой?
Мы видим здесь, однако, не только провоцирующую лексику, но и тавтологическую рифму, пародирующую сонетную структуру, и нерифмующуюся (и при том пародийную по патетической интонации) предпоследнюю строку. В других сонетах Еременко прибегает к другим экспериментам (в частности, первым после Бродского пишет сонет без рифм).
Наконец, можно вспомнить сонет Евгения Мякишева «Тусовка» (1986), написанный на ленинградском молодежном сленге («Зааскай мне файфовый, в тусовке на Климате ломко...»).
Таким образом, сонеты Аронзона надо воспринимать именно в этом контексте – контексте остранения, переосмысления сонетной формы, испытания ее на разрыв, которое входило в круг интересов скорее «новаторов», а не «традиционалистов» – что бы под этим не подразумевалось. В чем же особенность его пути? Очертим наиболее важные с нашей точки зрения тенденции, предельно кратко, чтобы не повторять сказанного в книге Казарновского.
Во-первых, само обращение к закрытой сонетной форме у Аронзона связано с его отношением к поэтическому времени (стремлением к его сворачиванию и в идеале остановке) и зацикленностью на идее повторности. И то, и другое резко и радикально отличает его от Бродского. Поэтому если у Бродского конец сонета всегда открыт, формула если и задается, то в начале (см. выше приведенный «Postscriptum»), то Аронзон почти всегда стремится замкнуть лирическое пространство.
Во-вторых, темой сонетов Аронзона в ряде случаев становится сам процесс сочинения данного сонета («Забытый сонет», «Погода – дождь. Взирая на свечу....») – на фоне бессонницы и меланхолии. Таким образом, «остранение» формы доходит до предела, и, возможно, у другого поэта эта «бессодержательность» сигнализировала бы о внутренней незначительности текста. Но не у Аронзона, с его стремлением к кольцеобразности и культом «пустоты» и «молчания». Сонет «Есть между всем молчание. Одно....» может восприниматься как его поэтический манифест: молчание, зияние, пустота дают простор для максимально масштабного смысла:
Чем более ячейка, тем крупней
размер души, запутавшейся в ней.
Любой улов обильный будет мельче,
чем у ловца, посмеющего сметь
гигантскую связать такую сеть,
в которой бы была одна ячейка!
В «Пустом сонете» эту открытость засловесным смыслам воплощает сама графика одной из редакций. Цитируя Казарновского: «Увлеченный восточным миросозерцанием, Аронзон вполне мог встречать утверждения, что форма есть порядок, а пустота («шуньята») есть форма. Форма и пустота представляют собой два аспекта одной реальности, сосуществуя друг с другом и пребывая в постоянном взаимодействии»2. Это, однако, не единственный характерный для Аронзона вариант остранения сонетной формы. Близким, но не тождественным вариантом является демонстративная тавтологичность (знаменитые «Два одинаковых сонета»).
Хочется надеяться, что эти наблюдения над историко-культурным контекстом позволят увидеть какие-то новые аспекты отношения поэта к сонетной форме – как сближающие Аронзона с современниками, так и уникальные именно для его поэтики.
1 – Генрих Сапгир Сонеты на рубашках, М. Третья волна, 1989, с. 5.
2 – Казарновский, с. 642.