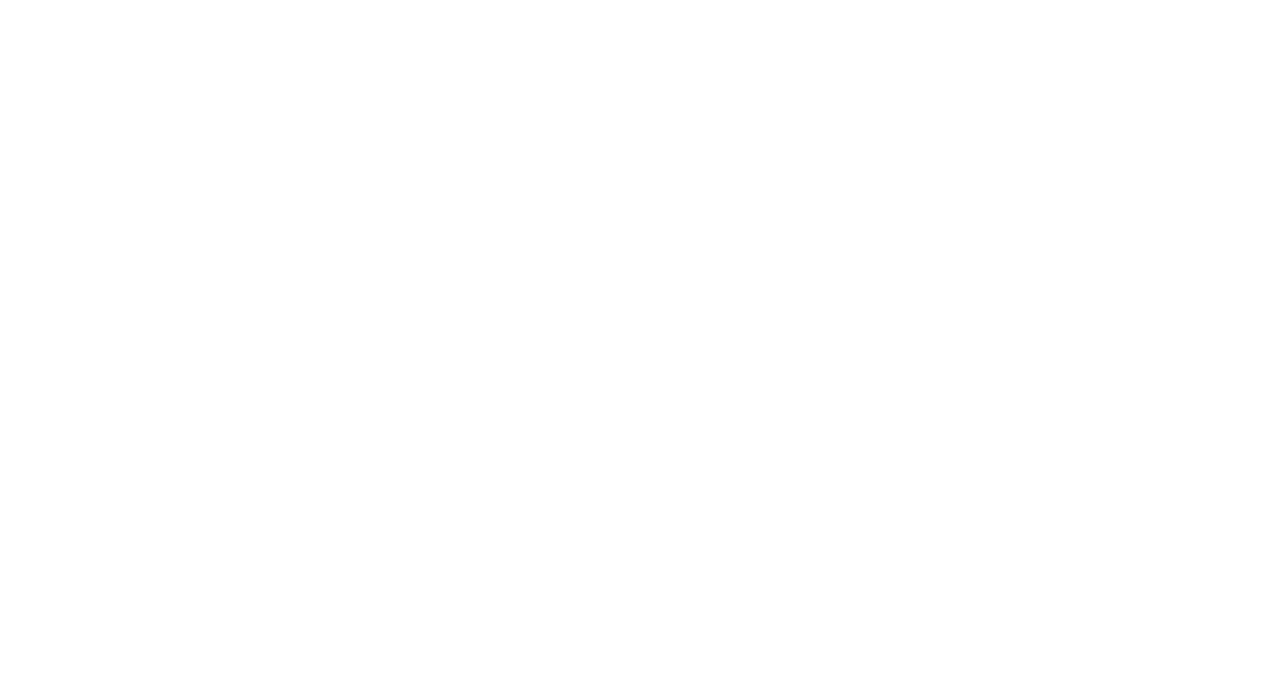переводы
О поздних стихах
Мартина Хайдеггера
ольга седакова
Прежде всего, благодарю Андрея Пузырей: пару дней назад он сообщил мне эти тексты, которые я считала безвозвратно потерянными. Сегодня – 30 сентября – я рада их вспомнить в связи с днем переводчика. И кроме того, в связи с тем, что о стихах Хайдеггера не один раз вспоминали последние дни, цитируя рассказ Татьяны Горичевой о ее переписке с Хайдеггером и о том, как он послал ей эти стихи.
Так вот, с копией этой машинописи у меня дома впервые появилась Татьяна Горичева. Года я не вспомню, но ясно помню, что дело было на Светлой. На титульном листе рукой Хайдеггера была сделана дарственная надпись Рене Шару; каждое стихотворение сопровождалось французским переводом, выполненным Жаном Боффре и Франсуа Федье (эти имена еще ничего не говорили для меня). Татьяна предложила мне перевести эти стихи (по легенде, с такого же предложения начались их отношения с Виктором Кривулиным). В отличие от Кривулина, я взялась переводить. В то время я много читала по-немецки, и немецкий был у меня куда лучше, чем сейчас.
Напомню, что Хайдеггер и его переводы тогда относились к самиздату. Так что публикация этой моей работы состоялась не скоро, в «Искусстве кино». А еще через некоторое время мы встретились с Франсуа Федье, одним из переводчиков этих стихов, первым знатоком, переводчиком и учеником Хайдеггера. Франсуа Федье (позже я перевела его небольшую книгу «Голос друга») стал нашим другом, и В. В. Бибихина, и моим. Когда он с женой навестил меня в Азаровке, я подарила ему уже обветшавший экземпляр “Gedachte”. Каждое стихотворение там было от руки переписано по-немецки, потом по-французски, потом по-русски. Федье был необычайно тронут. Он унаследовал от своего учителя самый живой интерес к России. Федье умер в 2021 году. Так что последующей трагедии он не увидел.
А теперь сами переводы.
Так вот, с копией этой машинописи у меня дома впервые появилась Татьяна Горичева. Года я не вспомню, но ясно помню, что дело было на Светлой. На титульном листе рукой Хайдеггера была сделана дарственная надпись Рене Шару; каждое стихотворение сопровождалось французским переводом, выполненным Жаном Боффре и Франсуа Федье (эти имена еще ничего не говорили для меня). Татьяна предложила мне перевести эти стихи (по легенде, с такого же предложения начались их отношения с Виктором Кривулиным). В отличие от Кривулина, я взялась переводить. В то время я много читала по-немецки, и немецкий был у меня куда лучше, чем сейчас.
Напомню, что Хайдеггер и его переводы тогда относились к самиздату. Так что публикация этой моей работы состоялась не скоро, в «Искусстве кино». А еще через некоторое время мы встретились с Франсуа Федье, одним из переводчиков этих стихов, первым знатоком, переводчиком и учеником Хайдеггера. Франсуа Федье (позже я перевела его небольшую книгу «Голос друга») стал нашим другом, и В. В. Бибихина, и моим. Когда он с женой навестил меня в Азаровке, я подарила ему уже обветшавший экземпляр “Gedachte”. Каждое стихотворение там было от руки переписано по-немецки, потом по-французски, потом по-русски. Федье был необычайно тронут. Он унаследовал от своего учителя самый живой интерес к России. Федье умер в 2021 году. Так что последующей трагедии он не увидел.
А теперь сами переводы.
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР “GEDACHTES” («ЗАМЫСЛЕННОЕ») 1970 г.
Предисловие и перевод с немецкого Ольги Седаковой.
Предисловие и перевод с немецкого Ольги Седаковой.
Lernt erst danken –
und ihr könnt denken.
(“Seyn und Denken”)
Научитесь благодарить –
и вы сможете думать.
(«Бытие и мысль»)
Авторское предисловие Хайдеггера к стихотворному циклу 1941 года начинается провоцирующим указанием: ”Winke” (намеки, знаки – название книги. – О.С.) – не стихи. Но это и не изложенная стихом и в рифму философия». Вероятно, такое дважды негативное определение в еще большей степени относится к позднейшим вещам, небольшому циклу 1970 года “Gedachtes” (приблизительно: «Замысленное»).
Если перевод поэзии – вообще проблемная вещь, то перевод такой не-поэзии уже, пожалуй, беспроблемен: это фатальная неудача. Компенсирующие возможности стихотворного перевода здесь не употребимы: мы не можем замещать слова Хайдеггера чем-то отчасти похожим «по смыслу» и при этом отвечающим требованиям просодии. Каждое слово (и такое, например, как «судьба», которое можно принять за банальный поэтизм) в самом деле концептуально; объем его смысла задан общей системой мысли Хайдеггера. Слово не рождается в стихе, но входит в него готовым: преображение его словарного смысла совершилось за пределами стиха, в мысли (как, например, это произошло с одним из фундаментальных хайдеггеровских слов – Lichtung: просвет, просека, опушка; в конце нашего цикла, уже не впервые у Хайдеггера, с этим просветом уравнивается истина, греческая Алетейя – выведение из скрытого состояния, от-кровение, – если снять с этого слова привычный богословский оттенок). Сложность такого рода – недопустимость синонимии – известна и переводчику «просто поэзии» (скажем, Т. С. Элиота или Р. М. Рильке). Разница только в том, что у поэтов такие «фундаментальные» (и не менее без-основные, чем хайдеггеровское Lichtung) слова вправлены в ряды других, более зыбких, более индивидуальных или словарных. У Хайдеггера же весь текст состоит из таких – помысленных, замышленных – слов. Французские переводчики, ученики Хайдеггера, Ж. Боффре и Фр. Федье решительно проясняют некоторые слова, исходя из общей смысловой системы Хайдеггера, из того, что в ней (а не в словаре) синонимично. Так они передают Ereignis (букв.: событие) как l’eсlaire (молния), Verzicht (букв.: отказ) как non-dit (не-говоримое). Задача французского переводчика вообще-то много трудней, чем у русского: морфология русского слова иногда обнаруживает поразительные соответствия немецкому и вообще провоцирует думать по-хайдеггеровски, членя и вновь сплавляя слово из его составных. И русский синтаксис, в котором одна форма может обладать несколькими функциями, помогает передать смыслы Хайдеггера, расходящиеся сразу по нескольким тропинкам.
Но что же представляют собой эти тексты, «не-стихи» и «не рифмованная философия», с их названиями, указывающими на некоторую принципиальную неполноту («Намеки» – но не сама весть, «Замысленное» – но не овеществленное)? По Хайдеггеру, это «сказывание мысли Бытия»: мысль эта, как знают читатели его книг, совсем не дискурсивная, субъектно-объектная, исполняющая законы логики мысль декартовской традиции, она противостоит ей. Это не мысль о бытии, но мысль бытия, его событие. Стихи же и образ вообще, по Хайдеггеру, имеют дело не с бытием (Seyn), а с сущим (Seiende). Поэтому свои опыты он и не относит к поэзии. Двусложность бытия и сущего, раздвоение песни и мысли, Dichten и Denken и надежда на то, что возможны их «простое единство», их взаимопринадлежность, взаимопослушность, Zusammengehören, – одна из тем цикла. Песня и мысль расходятся не оттого, что углубляются в себя, что песня становится более песней, мысль – более мыслью, а наоборот: из-за того, что они удаляются от собственной глубины, теряют свой общий источник, свое «событие» – или «молнию» – или «прощание»:
Das Seyn ist das Ereignis
Das Ereignis ist der Anfang
Der Anfang ist die Entscheidung
Die Entscheidung ist das Abschied
Das Abschied ist das Seyn
Das Ereignis ist der Anfang
Der Anfang ist die Entscheidung
Die Entscheidung ist das Abschied
Das Abschied ist das Seyn
Бытие есть событие –
Событие есть начало –
Начало есть решение –
Решение есть прощание –
Прощание есть бытие –
Событие есть начало –
Начало есть решение –
Решение есть прощание –
Прощание есть бытие –
такую круговую цепь строит Хайдеггер в «Намеках». Каждое из уподоблений события и уподобление этих уподоблений друг другу точно, но в каком-то смысле необязательно и, конечно, не исчерпывающе: еще один просвет в «То Же» (das Selbe). Таким образом, хайдеггеровская «мысль бытия» с другой стороны подводит (и это заметили ученые-богословы, например, Христос Яннарас) к тому, чем занята апофатическая мысль (как в «Триадах», когда св. Григорий Палама говорит, что апофатическое познание выражает не столько отрицательное определение, сколько связь через союз ως: «как», «как бы»). Описать – тем более, определить – это «То Же» невозможно: иначе, кроме всего прочего, не нужны были бы ни образ, ни мысль. Ведь они растут из невыразимости «Того Же», порождающей новые и новые выражения, мгновенные и неполные, из внезапного «выведения из потаенности», «снятия сокрытия», из «намека» этого «То Же», которое «существует благодаря только себе» и в то же время и есть само «благодарение». Тот, кто не испытан вспышкой этого события («подземной грозы, которая неслышимо катит вдаль, прочь в надмирное пространство» – стихи 41-го года), «все многие», которым не слышно неслышимое, не принадлежавшие событию и потому не ставшие собой (поскольку собой делает – vereignet – событие), не могут решиться ни на песню, ни на мысль. Как видим, позиция Хайдеггера не кажется демократичной. Но это парадоксальное высокомерие: то, во что посвящен посвященный, как раз и есть знание о кротости, благодарности – и бесплодности всякой попытки «захватить», «удержать» у себя «ускользающее право». И мыслитель, и художник не говорят, но «дают сказать себя» этому от-крытию, не посягая на его субъективность. И, говоря себя, оно говорит об «от-речении», о не-высказываемости. Если какая-то мысль или образ намереваются «открыть» что-то раз навсегда, так, чтобы это можно было передать другим, как наследство, – они утрачивают свою «нищету» (несхватываемость, неоднозначность смысла) и, тем самым, подобие своему событию, начальному знаку благодарности. И, разлучившись с ним, мысль и песня разлучаются друг с другом, превращаются в «философию» и «искусство» эпохи, где «Число беснуется в пустых количествах / и больше не одаривает связью и образом» («Намеки»). Передать же мыслитель и поэт могут не пример (как бы широко не понимать пример), но лишь императив без-примерного, Beispiel-los (в обычном для Хайдеггера этимологическом переосмыслении слова Bei-spiel-los значит еще и «не-под-игрывающее»: русское «бес-примерное» вполне передает и этот второй смысл).
Из сказанного (пересказанного) выше понятна тема не-окончательности, положенная в основу (или в без-основность) названий стихотворных книг Хайдеггера: «Намеки», «Замысленное». Но, вероятно, это не все. Быть может, эти книги – намеки и замыслы не только в силу того, что таково свойство мысли бытия вообще: открывать ускользание. Быть может, это намеки и замыслы «другой поэзии» (как мысль Хайдеггера – «другая мысль», das andere Denken), поэзии «без образов», обратившейся к «раннему» и «без-опорному», словами мыслителя. Намеки на нее, тропы к ней, но не сама она. Есть какая-то другая, трудно определимая нехватка «стихотворности» в этих вещах. Чего им недостает? Непредсказуемости для самого автора? Определенной меры бессознательности, сохраняющейся и в самых сознательных поэтах (вспомним Элиота: «Плохой поэт бессознателен там, где следует быть сознательным, и сознателен там, где следует быть бессознательным»)? Безусловности звукового ряда? Чего-то еще, присущего песне поэта? К которой только подводит, которой задает тон прелюдия хайдеггеровской мысли.
И напоследок – еще раз о переводе. Переводчик, в отличие от автора, лишен главного в своем тексте – его будущего, его свободы продолжаться. Эта пустота впереди – не абсолютная пустота, потому что именно она управляет выбором всех слов на пути к себе. И потому то, что создает переводчик, есть мнимая длительность. Он вынужден развертывать во времени уже известный ему итог, найденное, имитируя путь к нему. Безупречно честным был бы на самом деле перевод итога – а это означало бы создание новой, совсем другой вещи…
Из сказанного (пересказанного) выше понятна тема не-окончательности, положенная в основу (или в без-основность) названий стихотворных книг Хайдеггера: «Намеки», «Замысленное». Но, вероятно, это не все. Быть может, эти книги – намеки и замыслы не только в силу того, что таково свойство мысли бытия вообще: открывать ускользание. Быть может, это намеки и замыслы «другой поэзии» (как мысль Хайдеггера – «другая мысль», das andere Denken), поэзии «без образов», обратившейся к «раннему» и «без-опорному», словами мыслителя. Намеки на нее, тропы к ней, но не сама она. Есть какая-то другая, трудно определимая нехватка «стихотворности» в этих вещах. Чего им недостает? Непредсказуемости для самого автора? Определенной меры бессознательности, сохраняющейся и в самых сознательных поэтах (вспомним Элиота: «Плохой поэт бессознателен там, где следует быть сознательным, и сознателен там, где следует быть бессознательным»)? Безусловности звукового ряда? Чего-то еще, присущего песне поэта? К которой только подводит, которой задает тон прелюдия хайдеггеровской мысли.
И напоследок – еще раз о переводе. Переводчик, в отличие от автора, лишен главного в своем тексте – его будущего, его свободы продолжаться. Эта пустота впереди – не абсолютная пустота, потому что именно она управляет выбором всех слов на пути к себе. И потому то, что создает переводчик, есть мнимая длительность. Он вынужден развертывать во времени уже известный ему итог, найденное, имитируя путь к нему. Безупречно честным был бы на самом деле перевод итога – а это означало бы создание новой, совсем другой вещи…
ZEIT
Wie weit?
Erst wenn sie steht, die Uhr
im Pendelschlag des Hin und Her,
hörst Du : sie geht und ging und geht
nicht mehr.
Schon spät am Tag die Uhr,
nur blasse Spur zur Zeit,
die, nach der Endlichkeit,
aus ihr entsteht.
Wie weit?
Erst wenn sie steht, die Uhr
im Pendelschlag des Hin und Her,
hörst Du : sie geht und ging und geht
nicht mehr.
Schon spät am Tag die Uhr,
nur blasse Spur zur Zeit,
die, nach der Endlichkeit,
aus ihr entsteht.
ВРЕМЯ
Как долго?
Скорее чем они встанут, часы
в бое маятника, в его там-тут
ты слушаешь: они идут они шли
они не идут.
К исходу дня часы только бледный след на пути,
туда где время
на краю Никогда
из него вос-стает.
Как долго?
Скорее чем они встанут, часы
в бое маятника, в его там-тут
ты слушаешь: они идут они шли
они не идут.
К исходу дня часы только бледный след на пути,
туда где время
на краю Никогда
из него вос-стает.
WEGE
Wege,
Wege des Denkens, gehende selber,
entrinnende. Wann wieder kehrend,
Ausblicke bringend worauf?
Wege, gehende selber,
ehedem offene, jäh die verschlossenen,
später. Früheres zeigend,
nie Erlangtes, zum Verzicht Bestimmtes -
lockernd die Schritte
aus Anklang verlässlichen Geschicks.
Und wieder die Not
zögernden Dunkels
im wartenden Licht.
Wege,
Wege des Denkens, gehende selber,
entrinnende. Wann wieder kehrend,
Ausblicke bringend worauf?
Wege, gehende selber,
ehedem offene, jäh die verschlossenen,
später. Früheres zeigend,
nie Erlangtes, zum Verzicht Bestimmtes -
lockernd die Schritte
aus Anklang verlässlichen Geschicks.
Und wieder die Not
zögernden Dunkels
im wartenden Licht.
ДОРОГИ
Дороги,
дороги мысли,
идущие сами собой, исчезающие.
Горный серпантин,
когда же вновь поворот,
обозрению открывающий – что?
Дороги, идущие сами собой,
однажды открытые, внезапно закрытые,
позже.
Указующие на раннее,
Никогда не достигнутое
предназначенное к отреченью,
освобождающие шаги из гула надежной судьбы.
И снова тяжесть
неуверенной темноты
в ожидающем свете.
Дороги,
дороги мысли,
идущие сами собой, исчезающие.
Горный серпантин,
когда же вновь поворот,
обозрению открывающий – что?
Дороги, идущие сами собой,
однажды открытые, внезапно закрытые,
позже.
Указующие на раннее,
Никогда не достигнутое
предназначенное к отреченью,
освобождающие шаги из гула надежной судьбы.
И снова тяжесть
неуверенной темноты
в ожидающем свете.
WINKE
Je aufdringlicher die Rechner,
je maßloser die Gesellschaft.
Je seltener Denkende,
je einsamer Dichtende.
Je notvoller Ahnende,
ahnend die Ferne
rettender Winke.
Je aufdringlicher die Rechner,
je maßloser die Gesellschaft.
Je seltener Denkende,
je einsamer Dichtende.
Je notvoller Ahnende,
ahnend die Ferne
rettender Winke.
НАМЕКИ
Чем назойливей распорядители чем необузданней общество
чем реже мыслители чем одиноче поэты
тем обреченней провидцы
предчувствуя даль
спасающего намека
Чем назойливей распорядители чем необузданней общество
чем реже мыслители чем одиноче поэты
тем обреченней провидцы
предчувствуя даль
спасающего намека
ORTSCHAFT
Die das Selbe denken
im Reichtum seiner Selbigkeit,
gehen die mühsam langen Wege
in das immer Einfachere, Einfältige
seiner im Unzugangbaren
sich versagenden Ortschaft.
Die das Selbe denken
im Reichtum seiner Selbigkeit,
gehen die mühsam langen Wege
in das immer Einfachere, Einfältige
seiner im Unzugangbaren
sich versagenden Ortschaft.
МЕСТНОСТЬ
Те, кто думает То Же
в богатстве его самотождества,
идут по трудной, долгой дороге
ко все более единому и простому
в той, своему неприступному
не позволяющей сказаться
местности.
Те, кто думает То Же
в богатстве его самотождества,
идут по трудной, долгой дороге
ко все более единому и простому
в той, своему неприступному
не позволяющей сказаться
местности.
CÉZANNE
Das nachdenksam Gelassene, das inständig
Stille der Gestalt des alten Gärtners
Vallier, der Unscheinbares pflegte am
chemin des Lauves.
Im Spätwerk des Malers ist die Zwiefalt
von Anwesendem und Anwesenheit einfältig
geworden, „realisiert“ und verwunden zugleich,
verwandelt in eine geheimnisvolle Identität.
Zeigt sich hier ein Pfad, der in ein Zusammengehören
des Dichtens und des Denkens
führt?
Das nachdenksam Gelassene, das inständig
Stille der Gestalt des alten Gärtners
Vallier, der Unscheinbares pflegte am
chemin des Lauves.
Im Spätwerk des Malers ist die Zwiefalt
von Anwesendem und Anwesenheit einfältig
geworden, „realisiert“ und verwunden zugleich,
verwandelt in eine geheimnisvolle Identität.
Zeigt sich hier ein Pfad, der in ein Zusammengehören
des Dichtens und des Denkens
führt?
СЕЗАНН
Задумчиво отрешенный, настойчиво
тихий образ:
старый садовник Валье, который выращивал что-то невзрачное
вдоль Chemin des Lauves.
В поздней вещи художника двоица:
тот, кто есть, и само бытие –
наконец, сплавляется:
«опредмеченная» и тут же преодоленная,
преображается в таинственное То Же.
Не открылась ли здесь
какая-то тропка,
ведущая к взаимопослушности песни и мысли?
Задумчиво отрешенный, настойчиво
тихий образ:
старый садовник Валье, который выращивал что-то невзрачное
вдоль Chemin des Lauves.
В поздней вещи художника двоица:
тот, кто есть, и само бытие –
наконец, сплавляется:
«опредмеченная» и тут же преодоленная,
преображается в таинственное То Же.
Не открылась ли здесь
какая-то тропка,
ведущая к взаимопослушности песни и мысли?
VORSPIEL
Lasst die Sage eines Denkens, ausgesetzt
dem Beispiel-losen, in der Stille seiner
Strenge ruhen.
Also werden - selten dann - Gebrauchte im
Ereignis armes Vorspiel wagen zu den
Liedern, die nur Dichter singen, langhin
ungehört.
Zwiefalt sprosst der Lieder und Gedanken
aus dem einen Stamm :
dem Sichverdanken jähen Winken
aus dem Dunkel des Geschicks.
Lasst die Sage eines Denkens, ausgesetzt
dem Beispiel-losen, in der Stille seiner
Strenge ruhen.
Also werden - selten dann - Gebrauchte im
Ereignis armes Vorspiel wagen zu den
Liedern, die nur Dichter singen, langhin
ungehört.
Zwiefalt sprosst der Lieder und Gedanken
aus dem einen Stamm :
dem Sichverdanken jähen Winken
aus dem Dunkel des Geschicks.
ПРЕЛЮДИЯ
Пусть сказание мысли, отданное до конца
Бес-примерному,
покоится в тишине собственной строгости.
Так решатся – немногие, впрочем,
испытанные огнем событья,
на прелюдию бедную к песне,
какую только поэты поют,
к песне, давно не слышанной.
Двойной побег они, песня и мысль,
их ствол один:
внезапное благодаренье намека
из темноты судьбы
Пусть сказание мысли, отданное до конца
Бес-примерному,
покоится в тишине собственной строгости.
Так решатся – немногие, впрочем,
испытанные огнем событья,
на прелюдию бедную к песне,
какую только поэты поют,
к песне, давно не слышанной.
Двойной побег они, песня и мысль,
их ствол один:
внезапное благодаренье намека
из темноты судьбы
DANK
Sichverdanken : Sichsagenlassen das Gehören in
das vereignend-brauchende Ereignis.
Wie weit der Weg vor diese Ortschaft, von der aus
das Denken in fügsamer Weise gegen sich selber
denken kann, um so das Verhaltene seiner
Armseligkeit zu retten.
Was aber arm ist, selig wahrt es sein Geringes.
Dessen ungesprochenes Vermächtnis
gross behaltet’s im Gedächtnis :
Sagen die Alêtheia als : die Lichtung :
die Entbergung der sich entziehenden Befugnis.
Sichverdanken : Sichsagenlassen das Gehören in
das vereignend-brauchende Ereignis.
Wie weit der Weg vor diese Ortschaft, von der aus
das Denken in fügsamer Weise gegen sich selber
denken kann, um so das Verhaltene seiner
Armseligkeit zu retten.
Was aber arm ist, selig wahrt es sein Geringes.
Dessen ungesprochenes Vermächtnis
gross behaltet’s im Gedächtnis :
Sagen die Alêtheia als : die Lichtung :
die Entbergung der sich entziehenden Befugnis.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарить: позволить всему сказать себя,
сказать, что все это принадлежит
молнии событья,
требующего и раздающего.
Как долга дорога до этой местности,
из которой мысль, как волны,
против себя самой
сумеет мыслить,
этим спасая
сокровенность
блаженной своей нищеты.
А нищий, он блаженно хранит свою малость,
то, чего нельзя завещать
в памяти его огромно:
сказать: Aletheia: просвет:
от-кровенье
ускользающего права.
Благодарить: позволить всему сказать себя,
сказать, что все это принадлежит
молнии событья,
требующего и раздающего.
Как долга дорога до этой местности,
из которой мысль, как волны,
против себя самой
сумеет мыслить,
этим спасая
сокровенность
блаженной своей нищеты.
А нищий, он блаженно хранит свою малость,
то, чего нельзя завещать
в памяти его огромно:
сказать: Aletheia: просвет:
от-кровенье
ускользающего права.
Фотография – Полина Сибринина