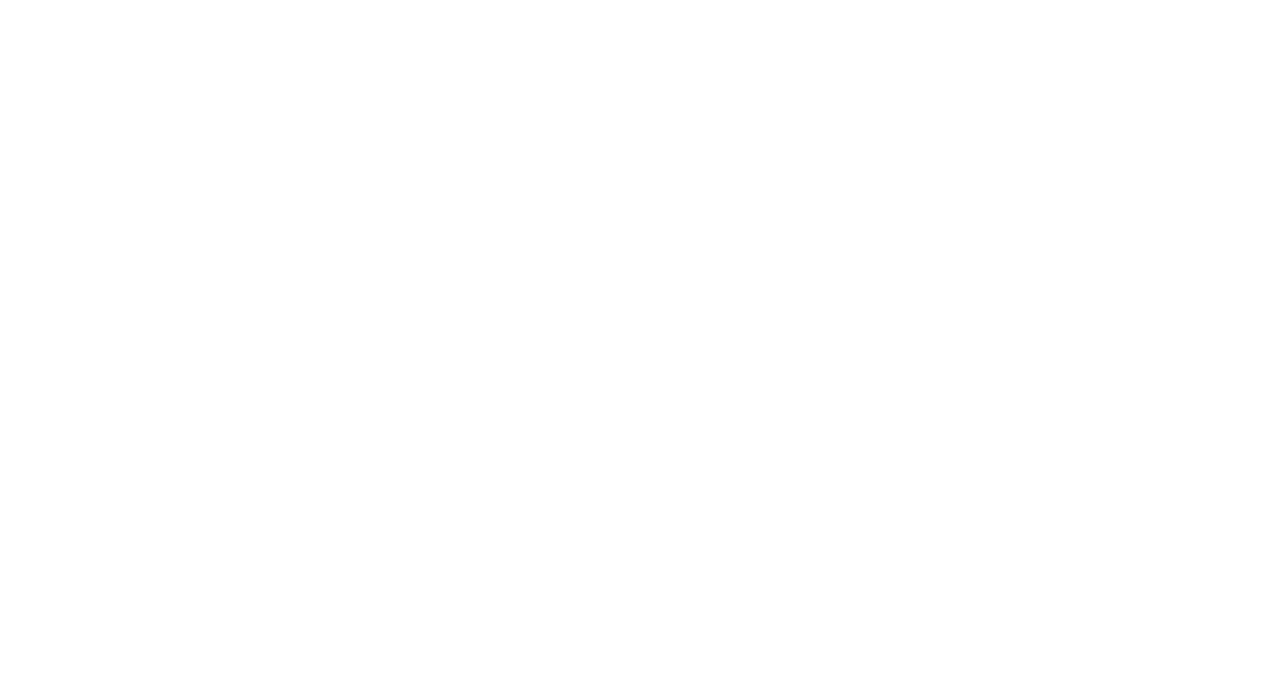переводы
Так молвит пепел
Петер Хухель
Как-то раз, говоря о Петере (при рождении – Гельмуте) Хухеле, Иосиф Бродский назвал того «one of the finest German poets of this century». Сам Хухель при этом, прожив большую часть жизни в коммунистическом Восточном Берлине, практически не снискал славы за пределами немецкоязычного мира, да и внутри него постоянно оставался в тени своих западных и австрийских коллег, которые в то время воспринимались как некий моральный оплот для обновленной культуры Германии. Отчасти из-за этого его жизнь сейчас кажется даже излишне карикатурной: прошел через войну, на которую был призван вопреки анти-нацистским воззрениям, советский плен, опалу и преследования Штази – и все только лишь ради того, чтобы в конце концов полностью разочароваться в идее светлого и ясного будущего на фоне всепоглощающего мирового насилия.
Стихотворения из этой подборки относятся преимущественно к позднему периоду его творчества и представляются мне новым видом гуманистической поэзии. Перед нами стихи о мире, в котором нет специально отведенного места для человека. Вместо него Хухель выводит на передний план мотивы природы, за что его еще при жизни ошибочно причисляли к представителям эко-поэзии, основополагающие культурные мифологемы и концепции времени и разрушения как намного более важные и фундаментальные для разобщенного общества темы.
Мне очень жаль, что, не считая стихотворения на шумеро-аккадскую тему, все стихи, представленные в подборке, обыгрывают исключительно хрестоматийные средневековые и античные образы, и без того широко распространенные в европейском искусстве. На деле, по широте и охвату интертекстуальных использований в послевоенной поэзии с Хухелем может сравниться разве что один только Паунд. В его работах все мифологии, от привычной нам европейской и до далеких арабской с китайской, сосуществуют абсолютно на равных, образуя тем самым протяженный континуум не отдельно национальных, но общих, внеисторических образцов соотношения человека с остальным миром. Должно быть, именно так выглядит пример парадоксально ненасильственной литературы времен после большой катастрофы — поэзии по другую сторону Берлинской Стены от человека, который в одно время успел разочароваться как в Восточной, так равно и в Западной из обеих Германий.
Стихотворения из этой подборки относятся преимущественно к позднему периоду его творчества и представляются мне новым видом гуманистической поэзии. Перед нами стихи о мире, в котором нет специально отведенного места для человека. Вместо него Хухель выводит на передний план мотивы природы, за что его еще при жизни ошибочно причисляли к представителям эко-поэзии, основополагающие культурные мифологемы и концепции времени и разрушения как намного более важные и фундаментальные для разобщенного общества темы.
Мне очень жаль, что, не считая стихотворения на шумеро-аккадскую тему, все стихи, представленные в подборке, обыгрывают исключительно хрестоматийные средневековые и античные образы, и без того широко распространенные в европейском искусстве. На деле, по широте и охвату интертекстуальных использований в послевоенной поэзии с Хухелем может сравниться разве что один только Паунд. В его работах все мифологии, от привычной нам европейской и до далеких арабской с китайской, сосуществуют абсолютно на равных, образуя тем самым протяженный континуум не отдельно национальных, но общих, внеисторических образцов соотношения человека с остальным миром. Должно быть, именно так выглядит пример парадоксально ненасильственной литературы времен после большой катастрофы — поэзии по другую сторону Берлинской Стены от человека, который в одно время успел разочароваться как в Восточной, так равно и в Западной из обеих Германий.
Никита Богачев
1
Die Engel
Ein Rauch,
ein Schatten steht auf,
geht durch das Zimmer,
wo eine Greisin,
den Gänseflügel
in schwacher Hand,
den Sims des Ofens fegt.
Ein Feuer brennt.
Gedenke meiner,
flüstert der Staub.
Novembernebel, Regen, Regen
und Katzenschlaf.
Der Himmel schwarz
und schlammig über dem Fluß.
Aus klaffender Leere fließt die Zeit,
fließt über die Flossen
und Kiemen der Fische
und über die eisigen Augen
der Engel,
die niederfahren hinter der dünnen Dämmerung,
mit rußigen Schwingen zu den Töchtern Kains.
Ein Rauch,
ein Schatten steht auf,
geht durch das Zimmer.
Ein Feuer brennt.
Gedenke meiner,
flüstert der Staub.
Ангелы
Коптит,
нисходит тень,
идет через пространство,
где женщина,
едва держа
крыло разбитого гуся,
еще и чистит печь.
Горит огонь.
Не позабудь меня, –
так молвит пепел.
Ноябрьский туман, дожди, дожди,
и кошка спит.
Чернеет небо
и река мутнеет.
С зияющих пустот стекает время,
бежит по плавникам,
по жабрам рыб,
по ледяным глазам
тех ангелов,
что в сумерках летят на своих
черных крыльях к дочуркам Каина.
Коптит,
нисходит тень,
идет через пространство.
Горит огонь.
Не позабудь меня, –
так молвит пепел.
2
Der Holunder
Der Holunder öffnet die Monde,
alles geht ins Schweigen hinüber,
die fließenden Lichter im Bach,
das durch Wasser getriebene Planetarium des Archimedes,
astronomische Zeichen,
in den Anfängen babylonisch.
Sohn, kleiner Sohn Enkidu,
du verließest deine Mutter, die Gazelle,
deinen Vater, den Wildesel,
um mit der Hure nach Uruk zu gehen.
Die milchtragenden Ziegen flohen.
Es verdorrte die Steppe.
Hinter dem Stadttor
mit den sieben Eisenriegeln
unterwies dich Gilgamesch,
der Grenzgänger zwischen Himmel und Erde,
die Stricke des Todes zu durchhauen.
Finster brannte der Mittag auf dem Ziegelwerk,
finster lag das Gold in der Kammer des Königs.
Kehre um, Enkidu.
Was schenkte dir Gilgamesch?
Das schöne Haupt der Gazelle versank.
Der Staub schlug deine Knochen.
Бузина
Бузина отворяет все луны,
покрывается мир тишиной,
ручеек огоньков полнотелых,
что истоком бывал Архимеду – его копии звездного неба,
астрономовым знакам,
чья отчизна была Вавилон.
О дитя, о малютка Энкиду,
позабыл ты и мать, антилопу,
позабыл и отца ты, онагра,
чтоб с блудницей явиться в Урук.
Разбежался весь скот прозорливый.
Ощетинилась степь.
За стеной городской,
где в основе железные прутья,
тебя смог вразумить Гильгамеш,
кто и небо, и земли разведал,
чтобы смерть усмирить наконец.
Пополудни ревели заводы,
в царской ложе тускнело добро.
Призадумайся ты, о Экиду.
Что подарок тот был Гильгамеша?
Антилопа понурила голову.
Пыльным ветром тебя занесло.
3
Ophelia
Später, am Morgen,
gegen die weiße Dämmerung hin,
das Waten von Stiefeln
im seichten Gewässer,
das Stoßen von Stangen,
ein rauhes Kommando,
sie heben die schlammige
Stacheldrahtreuse.
Kein Königreich,
Ophelia, wo ein Schrei
das Wasser höhlt,
ein Zauber
die Kugel
am Weidenblatt zersplittern läßt.
Офелия
Позже, под утро,
под самый рассвет,
проходя в сапогах
по болоту,
под лязги штыков
да под лай командора,
они брали
колючую проволоку.
О Офелия, нет земли,
где бы крик
заглушить мог течения рек,
нет магии,
чтобы пули
мигом бились об ивовую ветвь.
4
Persephone
Die Abgründige kam,
stieg aus der Erde,
aufgleißend im Mondlicht.
Sie trug die alte Scherbe im Haar,
die Hüfte an die Nacht gelehnt.
Kein Opferrauch, das Universum
zog in den Duft der Rose ein.
Персефона
Бездне подобна,
вышла из недр
в самую лунную ночь.
Осколок времен у нее в волосах,
ее бедра обласканы теменью.
Никаких благовоний, пусть лучше
весь мир пребывать будет в запахе роз.
5
Unterm Sternbild des Hercules
Eine Ortschaft,
nicht größer
als der Kreis,
den abends am Himmel
der Bussard zieht.
Eine Mauer,
rauh behauen, brandig
von rätlichem Moos.
Ein Glockenton,
der über schimmernde Wasser
den Rauch
der Oliven trägt.
Feuer,
von Halmen genährt
und nassem Laub,
durchweht von Stimmen,
die du nicht kennst.
Schon in die Nacht gebeugt,
ins eisige Geschirr,
schleppt Hercules
die Kettenegge der Sterne
den nördlichen Himmel hinauf.
Под созвездием Геркулеса
Местность,
не более
чем круг
из тех, что коршун
чертит за ночь.
Стена
совсем не облицована и
вся поросла мхом.
Звонят в колокола,
уже над водной гладью
повеяло
оливой.
Через
огонь, наевшийся травы
да шалыми ветвями,
стрекочут голоса, что
ты, увы, не знаешь.
На полпути к ночи,
железными вожжами,
влачится борозда
силами Геркулеса
из звезд – и вверх по небу.
6
Das Grab des Odysseus
Niemand wird finden
das Grab des Odysseus,
kein Spatenstich den krustigen Helm
im Dunst versteinerter Knochen.
Such nicht die Höhle,
wo unter die Erde hinab
ein wehender Ruß, ein Schatten nur,
vom Pech der Fackel versehrt,
zu seinen toten Gefährten ging,
die Hände hebend waffenlos,
bespritzt mit dem Blut geschlachteter Schafe,
Mein ist alles, sagte der Staub,
das Grab der Sonne hinter der Wüste,
die Riffe voller Wassergetöse,
der endlose Mittag, der immer noch warnt
der Seeräubersohn aus Ithaka,
das Steuerruder, schartig vom Salz,
die Karten und Schiffskataloge
des alten Homer.
Могила Одиссея
Не отыщет никто
Одиссея могилу,
не найдется лопаты, что наткнется на шлем
средь песков и костей каменелых.
Не ищи ты пути,
что под землю ведет
только ум торопливый при свете лампады;
невзирая на копоть,
совсем безоружный,
тот к почившим бежит
всюду красный от крови его же руками убитых овец;
все мое, – шепчет пыль:
и могила для солнца в барханах,
и те буйные воды, и скалы,
и извечный полудень, что всегда угождал
капитанову сыну с Итаки,
и штурвал, весь от соли в наростах,
и точнейший черед кораблей
со времен самого Гомера.
7
Plasm
Dass aus dem Samen des Menschen
kein Mensch
und aus dem Samen des Ölbaums
kein Ölbaum
werde,
es ist zu messen
mit der Elle des Todes.
Die da wohnen
Unter der Erde
in einer Kugel aus Zement,
ihre Stärke gleicht
dem Halm
im peitschenden Schnee.
Die Öde wird Geschichte,
Termiten schreiben sie
mit ihren Zangen
in den Sand.
Und nicht erforscht wird werden
ein Geschlecht,
eifrig bemüht,
sich zu vernichten.
Псалом
Да разве выйдет ли человек из
семени человека
и разве выйдет маслина из
масличного семени –
все это
так соразмерно
протяжности смерти.
Те, кто живут
под землей
в окружении цемента,
не сильнее чем
стебель
под толщей снегов.
Пустошь станет историей:
муравьи испишут еще
своими жвалами
этот песок.
И никто не припомнит
тот род, что так
увлечен был
своими раздорами.
8
Nichts zu berichten
Nichts zu berichten.
Das Einhorn ging fort
und ruht im Gedächtnis der Wälder,
in den Kammern des Mohns,
wenn die Äbtissin Sonne und Mond
den Toten gibt,
der Herbst lichtet sich,
verliert sein Gedächtnis
in der Blutspur der Buche.
Was bleibt, ist nicht mehr
als der schwarze Draht in der Luft,
der zwei Stimmen vereinigt.
In der weißen Abtei des Winters
ein lautloser Flügelschlag.
Im Namen dessen –
bis ans Ende der Tage.
Мне нечего и говорить
Мне нечего и говорить.
Единороги разбежались
и сохранились в памяти лесов,
на маковых садах,
когда и небо, и луна
минуют в Лету,
светится осень,
память истончая
у вяза прямо в лужи из крови.
Осталось что –
подобно проводам для
связи голосов.
В владениях зимы
безмолвный шелест крыльев.
Во славу их –
и до последних дней.
9
Schottischer Sommer
"What seemed corporeal melted äs breath into the wind'
Shakespeare, Macbeth
Schottischer Sommer,
unter der Eiche
zopftrocken
sitzend die Weiber aus Cawdor,
manche verborgen im Licht der Wolken,
abgeblühte Nesseln im Sand.
Über die Felsen herab
Trompetenstösse, ein Klirren
wühlt die Brandung auf.
Nebel, der sie erzeugte,
bald ist es Winter,
dünnes, nie ruhendes Holz,
der Schnee fegt hin und her
und stäubt die Öde an.
Dürr und düster
vor der goldenen Naht des Abends
hocken sie auf zerrissenen Fellen.
Wenn der Mond
die Zeiger verrückt am Turm,
starren sie mit erloschenen Augen.
Unbewohnbar die Trauer,
die an den Klippen verebbt.
Лето в Шотландии
Рассеялись, как пар,
И в воздухе растаяли бесследно.
Шекспир, Макбет
Лето в Шотландии
под сенью дерев,
что стоят тут сухие, как космы,
восседали жены Ковдора,
прячась в небесной тиши.
У их ног расцветала крапива –
вниз, по скалам,
в трубы трубили
и слышалось море.
Туман, начало их,
являлся и предвестником зимы:
тугие деревца без устали
туда-сюда клонились от мороза,
и мир уже терял былые краски.
Суровы и сухи,
те на исходе ночи
сидят на корточках, в лесу поджавши ноги.
Когда луна
к полуночи переведет часы, они
уставятся на то потухшими глазами.
Необратимо горе,
текущее с вершин.
Читайте также другие переводы
Фотография – @apollinairi
Все права защищены
Die Engel, Psalm, Ophelia, Persephone, Unterm Sternbild des Hercules, Das Grab des Odysseus, Nichts zu berichten, Schottischer Sommer and Der Holunder öffnet die Monde, taken from: Peter Huchel, Gesammelte Werke in zwei Bänden. Band 1, Die Gedichte. Herausgegeben von Axel Vieregg. © 1984 Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin. All rights reserved. Reprinted with kind permission from Suhrkamp Verlag.
Фотография – @apollinairi
Все права защищены
Die Engel, Psalm, Ophelia, Persephone, Unterm Sternbild des Hercules, Das Grab des Odysseus, Nichts zu berichten, Schottischer Sommer and Der Holunder öffnet die Monde, taken from: Peter Huchel, Gesammelte Werke in zwei Bänden. Band 1, Die Gedichte. Herausgegeben von Axel Vieregg. © 1984 Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin. All rights reserved. Reprinted with kind permission from Suhrkamp Verlag.