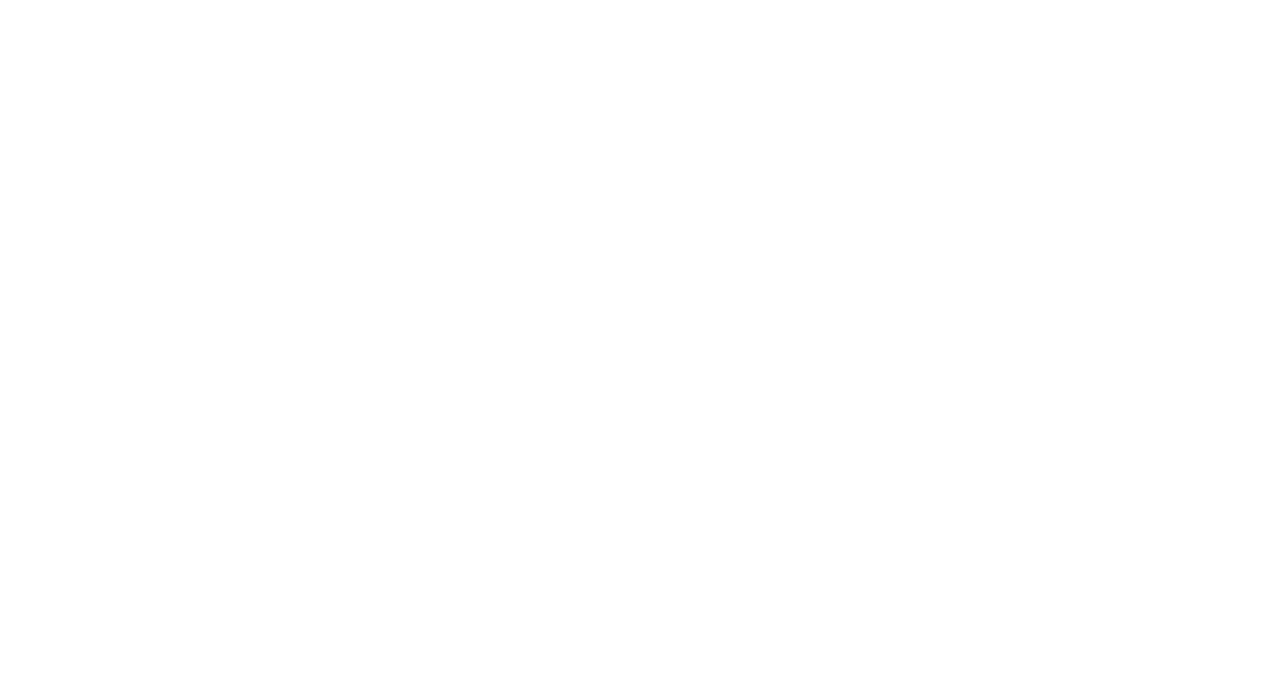эссе
и снова
о поэзии аронзона
Петр Казарновский
В этом году 13 октября исполняется 55 лет с того дня, как не стало поэта Леонида Аронзона. Он прожил недолгую жизнь и погиб, когда ему исполнился 31 год, однако успел создать цельный поэтический мир, в котором формальные аспекты органично уживаются с мистическим визионерством. Его творчество, несмотря на сравнительно небольшой объем его наследия, стало важной составляющей ленинградской, шире — российской, неподцензурной литературы двух последних десятилетий существования СССР. Аронзон довольно рано начал осваивать поэтику, с помощью которой сумел выявить черты исключительно оригинального индивидуального мира. Особенность этого поэтического универсума заключается в том, что он очень мало имеет общего с миром «объективной реальности»: Аронзон рано отдал предпочтение миру внутреннему по сравнению с миром внешним, что во многом определило как ограниченную тематику его творчества, так и лексическую сдержанность и склонность к малым поэтическим формам. Сам по себе лирический эскапизм не является чем-то исключительным, однако в случае Аронзона интересно, как именно он определяет границы своего внутреннего мира и возможности его охвата словом: в зрелый период творчества он определил «материал» — то есть тему, направление — своей «литературы» как «изображение рая». Поэзия Аронзона, уводя от действительности, вела в место (или состояние) чистого созерцания, недоступное для насущных тревог современности. Поэт открывает путь постижения красоты и истинности своего мира — путь, который не может быть завершен, как сама красота не может быть исчерпана до последнего предела.
Что же именно порождает стойкое, но и многогранное впечатление от этой поэзии — ощущение разреженности, замкнутости, изолированности этого мира? Того состояния, которое, пользуясь словом-термином Ры Никоновой, публиковавшей Аронзона в 1980-е годы в самиздатском журнале «Транспонанс», можно было бы назвать «жизнь в сосуде»? И поэтический мир Аронзона — это некий замкнутый, изолированный мир. Он как будто не отличается от того мира, что снаружи; поэт, говоря о нем, характеризует его так: «Мой мир такой же, что и ваш <…> но только мир души». Но этот мир, несмотря на свою замкнутость, закрытость, даже ограниченность, в то же время и бесконечен, безграничен. Ведь это рай. И в этом следует видеть один из ключевых и противоречивых образов Аронзона — сочетание ограниченности и безграничности. Наверное, этот мир воспринимается таким живым и неисчерпаемым и в силу легкой задумчивости, призывающей к самоуглублению, даже к замкнутости, что не отменяет веселости, порой легкомысленности, но это — особым образом сосредоточенная легкомысленность. Аронзоном пересматривается вся картина мира, в котором время оказывается то замедленным до замирания, то готовым пуститься вспять. И всё действо, похожее на театральное, совершается в замкнутом пространстве: эти речения, эти высказывания, они происходят внутри этого пространства.
Елена Шварц охарактеризовала поэзию Аронзона латинским выражением «hortus clausus» — «закрытый, запертый сад». Это очень точно: он закрыт, изолирован от остального мира, замкнут в себе и на себя; но он сад — место созерцательных прогулок и неподвижной неторопливости. В этом саду что-то должно храниться — неприкосновенное, то, что нельзя вынести наружу.
Поэт сталкивается с трудностью извлечения красоты — ведь красоту нельзя отобразить, потому что это будет суррогат красоты, а не она сама. Эта поэзия не является непосредственной. Вещи как бы нет, до тех пор пока она воспринимается автоматически; вот и надо вывести вещь из этого автоматизма. Ведь привычное это и есть невидимое, а значит — в каком-то смысле отсутствующее. Вывести вещь из привычного, невидимого, из отсутствия, чтобы она предстала во всем блеске, который можно принять за божественный или за первозданный. Аронзон не творит красоту, так как это невозможно, ее можно извлечь на короткий, может быть, момент. Да, «всё, что мы трудом творим, / было создано до нас», как сказано в одном важном стихотворении, «но густой незнанья дым / это всё скрывал от глаз».
Аронзон выстраивает систему образов на основе повторяющихся ситуаций внутри изображаемого мира с персонажем-созерцателем внутри. Аронзон-автор сосредоточен на зрении своего героя, и для сохранения объема этого ритуализированного процесса необходима неподвижность этого лирического лица: созерцателю, наблюдателю должно оставаться статичным. Этот созерцатель видит то, чего нет; видит то, что доступно Аронзону-человеку на уровне внутреннего зрения, умозрения, так сказать. И поэту надо эту абстракцию посредством слов представить в ясной конкретике, в яркой видимости, видности. Каким же образом из этой умозрительности порождается как бы узнаваемый пейзаж, как бы знакомое пространство. Тут важно это «как бы»: это узнаваемое никогда не может быть узнано до конца, потому что это «мир души» — нечто из сферы представлений. И узнаваемое не значит привычное. И это не те представления, которые встают на место чего-то подлинного, — не представления о предмете, о вещи вместо самой вещи. Да и узнаваемость эта условна, потому что слова всё те же, вроде бы привычные. Поэт заставляет нас увидеть, совершив извлечение вещи из невидимого, привычного. Именно такую миссию осуществляет, по Аронзону, Пушкин в одноименном стихотворении:
Что же именно порождает стойкое, но и многогранное впечатление от этой поэзии — ощущение разреженности, замкнутости, изолированности этого мира? Того состояния, которое, пользуясь словом-термином Ры Никоновой, публиковавшей Аронзона в 1980-е годы в самиздатском журнале «Транспонанс», можно было бы назвать «жизнь в сосуде»? И поэтический мир Аронзона — это некий замкнутый, изолированный мир. Он как будто не отличается от того мира, что снаружи; поэт, говоря о нем, характеризует его так: «Мой мир такой же, что и ваш <…> но только мир души». Но этот мир, несмотря на свою замкнутость, закрытость, даже ограниченность, в то же время и бесконечен, безграничен. Ведь это рай. И в этом следует видеть один из ключевых и противоречивых образов Аронзона — сочетание ограниченности и безграничности. Наверное, этот мир воспринимается таким живым и неисчерпаемым и в силу легкой задумчивости, призывающей к самоуглублению, даже к замкнутости, что не отменяет веселости, порой легкомысленности, но это — особым образом сосредоточенная легкомысленность. Аронзоном пересматривается вся картина мира, в котором время оказывается то замедленным до замирания, то готовым пуститься вспять. И всё действо, похожее на театральное, совершается в замкнутом пространстве: эти речения, эти высказывания, они происходят внутри этого пространства.
Елена Шварц охарактеризовала поэзию Аронзона латинским выражением «hortus clausus» — «закрытый, запертый сад». Это очень точно: он закрыт, изолирован от остального мира, замкнут в себе и на себя; но он сад — место созерцательных прогулок и неподвижной неторопливости. В этом саду что-то должно храниться — неприкосновенное, то, что нельзя вынести наружу.
Поэт сталкивается с трудностью извлечения красоты — ведь красоту нельзя отобразить, потому что это будет суррогат красоты, а не она сама. Эта поэзия не является непосредственной. Вещи как бы нет, до тех пор пока она воспринимается автоматически; вот и надо вывести вещь из этого автоматизма. Ведь привычное это и есть невидимое, а значит — в каком-то смысле отсутствующее. Вывести вещь из привычного, невидимого, из отсутствия, чтобы она предстала во всем блеске, который можно принять за божественный или за первозданный. Аронзон не творит красоту, так как это невозможно, ее можно извлечь на короткий, может быть, момент. Да, «всё, что мы трудом творим, / было создано до нас», как сказано в одном важном стихотворении, «но густой незнанья дым / это всё скрывал от глаз».
Аронзон выстраивает систему образов на основе повторяющихся ситуаций внутри изображаемого мира с персонажем-созерцателем внутри. Аронзон-автор сосредоточен на зрении своего героя, и для сохранения объема этого ритуализированного процесса необходима неподвижность этого лирического лица: созерцателю, наблюдателю должно оставаться статичным. Этот созерцатель видит то, чего нет; видит то, что доступно Аронзону-человеку на уровне внутреннего зрения, умозрения, так сказать. И поэту надо эту абстракцию посредством слов представить в ясной конкретике, в яркой видимости, видности. Каким же образом из этой умозрительности порождается как бы узнаваемый пейзаж, как бы знакомое пространство. Тут важно это «как бы»: это узнаваемое никогда не может быть узнано до конца, потому что это «мир души» — нечто из сферы представлений. И узнаваемое не значит привычное. И это не те представления, которые встают на место чего-то подлинного, — не представления о предмете, о вещи вместо самой вещи. Да и узнаваемость эта условна, потому что слова всё те же, вроде бы привычные. Поэт заставляет нас увидеть, совершив извлечение вещи из невидимого, привычного. Именно такую миссию осуществляет, по Аронзону, Пушкин в одноименном стихотворении:
Ветра не было б в помине,
не звенела бы река,
если бы Пушкин по равнине
на коне б не проскакал.
Рай Аронзона — это не вымысел и не результат неосознанных или неотрефлектированных видений. Рай Аронзона — парадоксальное пространство без определенных ориентиров, в котором лирический герой1 существует вне социальной действительности и сосредоточен на самом себе и самых близких друзьях, часто выступающих персонажами-двойниками героя. Рай Аронзона — засмертный, инобытийный мир, где наиболее адекватная форма высказывания — молчание. Аронзон находит такой модус поэтического говорения, которым оказывается мотивировано пустое пространство, сама пустота, не предполагающая ни рационального дискурса, ни линейного времени. В этом поэтическом континууме многие онтологические категории, обнаруживаемые поэтом, предполагают присутствие своих противоположностей: так, существование отсылает к несуществованию, жизнь — к смерти, явь — ко сну, причем эти процессы характеризуются взаимной обратимостью, пустота — к полноте, молчание — к слову.
И вместе с тем рай — это «пространство души», уже оторвавшейся от телесности в привычном смысле этого слова: телесность у Аронзона — одухотворена, божественна. Способность видеть райское пространство, сказать о пребывании в нем — в «мире души» — оказывается связанной не только с проблемой времени, но и со сложностью самоидентификации: автоперсонаж Аронзона мыслится пережившим смерть и обретшим свое «я» в окружающем его пейзаже или — парадоксально — автопортрете. Обступающая героя зримость только и может подтвердить его присутствие в ней, точно так же как только ему предоставлено увидеть раскрывшийся перед его мысленным взором мир. Герой Аронзона есть, когда он видит зримое, но зримого самого по себе нет, как бы нет.
И всё же мир Аронзона искусственный, то есть он сотворен — изображен в словах. Творцов как минимум два: это Создатель и это поэт. Создатель — Бог, как некая первичная инстанция, к которому Аронзон обращается часто. Поэт — та инстанция, которая передаёт это нам, и поэта в основном не следует смешивать с персонажем.
Исходя из Божественной природы сотворенного мира, понятно, почему одной из констант поэтического мира Аронзона является красота — во многом идеальная сущность, в силу чего она не только недоступна разрушению, но и остается нетронутой, когда вблизи нее пребывает персонаж. Более того, он способствует открытию красоты, ее выявлению, и в этом смысле сопричастен творению.
Созерцание прекрасного, сколь бы мало оно ни длилось, оказывается тождественным богоявлению, и это созерцание как высшее делание, необходимая часть творчества, никак не может сопровождаться какой-либо деятельностью. Поэтому участники поэтического мира Аронзона, как правило, статичны; может быть подвижен окружающий мир, но никак не персонаж, сосредоточенный на красоте пейзажа, тела или произведения искусства. Открывающееся зрению прекрасное мыслится единственным, как единственным может быть и миг такого открытия.
Единственность, уникальность — как воплощения красоты, так и его созерцающего персонажа — сопровождается в этих стихах одиночеством, наиболее адекватным языком которого и оказывается молчание. Молчание у Аронзона имеет скорее позитивное значение, как и пустота, что сообщает его поэтическому высказыванию мистический оттенок: согласно биполярной структурированности этого мира, чувственно ощущаемая пустота подразумевает полноту, постоянную потенциальность. Можно говорить, что одно из свойств молчания, на котором сосредоточен поэт, заключается в том, чтобы дать объекту своего созерцания проявить себя во всей своей уникальности и максимально полно. Но открыться эта полнота может только отрешенному взгляду. Отчасти это объясняет, что понимается в поэзии Аронзона под состоянием смерти — «внутреннего хронотопа», для описания которого поэт прибегает к условности, театрализуя ситуацию замершего времени. Смерть как состояние у Аронзона амбивалентна и тем сближается с такими состояниями, как пустота. В пустоте и смерти невозможна речь, отсюда и молчание.
Однако молчание у Аронзона выступает признаком присутствия в раю, в засмертном пространстве, где душа обитает уже без физического тела, лишь в его оболочке. Свойственный поэту диалогизм, диалогическое проникновение в предстоящее взору персонажа, выводит его за пределы личного «я», где и осуществляется приобщение к тому, что связывает близких по духу в некое сотворческое «мы». Этот поэтический мир порождает ситуацию двойничества, когда персонажи отражаются друг в друге и в себе самих, не имея возможности обрести окончательность, конечность.
Атмосферу, в которой существует персонаж Аронзона, было бы правильно определить как некое безвоздушное пространство, как некий очень разреженный воздух с одной стороны, но, с другой — для этого пространства и для существования в нем характерно ощущение очень глубокого дыхания. Дыхания, не нарушаемого быстрым ходом, когда все именно замедленно. И нельзя ускорением нарушать этого медленного хода. Это условие закрытости, это и ритуал сада. Так происходит бесконечное восхождение на вершину холма, выступающее сюжетом стихотворения «Утро», — восхождение к «внутреннему небу».
Недаром Ольга Седакова говорила об Аронзоне как поэте кульминации. Для Аронзона очень характерно такое: «прервать уже не в силах наслажденье». «Прервать не в силах» — это непрерывность. Это важное для Аронзона «непрерывное Я», «непрерывность Я». Так и конца этой кульминации нет, кульминация непрерывна, но никогда нет развязки; одно раннее стихотворение так и начинается: «Развязки нет…» То есть этот сюжет находится в цикличности и вне линейного времени в том смысле, что он никогда не заканчивается, хотя и тяготеет к цикличности. Нет ни хэппи-энда, ни трагичного конца. И знаменитую строку: «чтоб застрелиться, тут не надо ничего», по-моему, следует читать и так, что стреляться не нужно, потому что все уже произошло: «Всюду так же, как в душе: еще не август, но уже». «Еще» и «уже» оказываются полюсами одновременности, и между ними непрерывно присутствует сюжет в своей онтологической незавершенности («ещё») и в то же время окончательной воплощенности («уже»). Не случаен и август как месяц Преображения, если вспомнить Пастернака. И смерть у Аронзона тоже амбивалентна. Пожалуй, это даже оптимистично. Его лирическое «Я» — это, собственно, сцена пространства души, где разыгрывается некое действо, которое непрерывно. Но сказать определенно, что такое «я» Аронзона и «я» у Аронзона, почти невозможно. Как и определить, где то место, то самое «здесь», о котором он вопрошает: «Здесь ли я?»
Вместе с тем в поэзии Аронзона мы сталкиваемся почти с театральной условностью: идет определенная игра на сцене перед зрителем (как в стихотворении «Гобелен»). А зритель — поэт Аронзон, не могущий быть вовлеченным и приглашающий читателя стать созерцателем этого действа, в котором актеры-персонажи уже живут в совершенно другом мире и дышат другим воздухом — разреженным, как будто они совершают восхождение. С обыденностью это никак не связано, с привычным бытом. И язык для описания этого бытия персонажей должен быть иным. В этом действе есть определенные законы сюжета, главный из которых — отсутствие развития, постоянные повторы. В сущности, это мир очень однообразный, как и мир рая однообразен, лишен развдоенности и дурной множественности. Тут нет ни интриги, ни конфликта. Ход действия задан с самого начала, и дальше происходит погружение в него, углубление.
Ситуация любви, любования. Восторг, экстаз от переживания красоты, потому что рай — это красота. То есть рай — это ощущение красоты предельной интенсивности. Персонаж полон ощущением красоты, прекрасного — можно сказать, настолько полон, что ему не надо ее внешней формы, уже не надо: он говорит, что «прекрасного нет, только тихо и радостно рядом». В это действо персонаж вовлекается и в то же время не хочет вовлекаться; наоборот, он хочет наблюдать его. Потому что, если ты вовлечен, ты не можешь наблюдать, ты начинаешь действовать, а он пассивен. Он хочет сохранить эту позицию наблюдателя, потому что иначе он не сможет рассказать об этом. Каждое вовлечение отменяет другое — созерцание. Потому что, будучи вовлечен в действие, он не может больше его наблюдать. И его центральная проблема в том, что, если описывать какое-то действие или состояние, в него вовлекаешься. Если описываешь природу, то оказываешься внутри этого ландшафта. А он не хочет оказываться внутри. Он не должен оказываться внутри. Для него естественная ситуация — это «ты стоишь вдоль прекрасного сада», именно вдоль, или именно «рядом», если вспомнить предыдущую цитату. Ему нужно быть с одной стороны — вне сада, вне того пространства, о котором надо сказать, потому что оно прекрасно.
Итак, с одной стороны у Аронзона — невовлечённость, а с другой стороны — острота переживания райского состояния у персонажа образуют центральный конфликт поэта. Грубо говоря, его герой никогда не может попасть в рай, хочет и не хочет одновременно. Потому что как только он в него попадает, он лишается способности о нём говорить. Он должен стоять «вдоль прекрасного сада», но никогда не в нём. Он может описывать то состояние, в котором он оказался, но для этого он должен из него выйти. И для того, чтобы это описание состоялось, Аронзон вводит фигуру автоперсонажа, удваиваемую фигурой двойника. Двойник появляется в том случае, когда поэту необходимо погрузить своего автоперсонажа в определённое состояние, в определённую историю, в определённую вовлечённость; двойник действует, способен на отношения. И эта конфигурация с двойником позволяет ему как бы оставаться одновременно наблюдателем и участником: «Изменяясь каждый миг, / я всему вокруг двойник», — в этом парадоксе из «Дуплетов» автоперсонаж «я» вступает в зеркальные отношения со своим двойником, с двойниками: «я» раздваивается, размножается. И потому возникают и «Два одинаковых сонета». Это опять-таки удвоение, и удвоение делает эту ситуацию условной. Автоперсонаж как бы подпускает своего двойника в любовники своей жены, а сам смотрит. И автоперсонаж смотрит на эту любовь — как на свою, но и не свою.
С точки зрения языка центральной становится проблема номинации. Когда мы называем что-то определенным именем, мы вовлекаемся в язык, мы начинаем им пользоваться, мы теряем дистанцию, оказываемся во власти автоматизма. Чтобы этого не произошло, нужно сделать всё максимально странным. И Аронзон деавтоматизирует язык традиционной русской поэзии. Он одновременно поэт классический, который пользуется классическими формами — сонета, например, и в то же время экспериментатор. Потому что по отношению к языку он, как поэт, должен сохранить такую же дистанцию, как его персонаж в отношении описываемого мира. Наверное, потому в этой поэзии поэтическая самоидентификация невозможна как окончательная и утверждается или апофатически, или в акте вопрошания, часто безответного. К слову сказать, у Аронзона есть несколько рисунков, на которых представлены фигуры, обозначенные не одним, а двумя, тремя контурами. Они — эти рисунки — свидетельствуют о том, что видим мы приблизительно, а говорим еще приблизительнее, тогда как убеждаем себя и других в том, что точны. И Аронзон не превращает это в обвинение в такой уверенности, в инвективу против уверенных, а пользуется этой неточностью как поводом для игры, предлогом для возникновения «юмора стиля».
Так Аронзон разрушает автоматизм традиционного лирического переживания и сохраняет на всех уровнях — на уровне действия, на уровне письма, на уровне чтения — эту дистанцию по отношению к языку и по отношению к лирическому канону, нигде не позволяя ей собой завладеть.
В поэзии Аронзон руководствуется идеалами красоты, назовем их, условно, пушкинскими или еще более старыми. То есть, он, так сказать, перепрыгивает модернизм и уходит в золотой век. Ведь золотой век — это тоже изображение определенного райского состояния. И этим можно объяснить классичность поэзии Аронзона.
Известно, что Вадим Вацуро высоко оценил поэзию Аронзона, видимо, найдя в ней продолжение того редкого случая, характерного для золотого века русской поэзии, — совпадения интенсивности переживания и способности это адекватно поэтически выразить.
Но при этом Аронзон постоянно разрушает эту классичность совершенно возмутительными с точки зрения обычного хорошего вкуса или даже нормального языкового восприятия вещами. Он обыгрывает поэтические штампы, нарочито использует клише, не стесняется демонстрации своей любви к графоманской поэзии. И одновременно он вводит в свою текстовую модель авангардистский эксперимент. Правда, в последние два года творчества он отказывается от такой броскости или расшатанности, уведя накопленное во внешне очень традиционный текст.
Можно сказать, что спектакль, начатый 60 с лишним лет назад Леонидом Аронзоном, все время продолжается. У этого спектакля нет конца, как нет и начала, но при этом есть постоянные действующие лица, есть ландшафт, есть пространство. Но это пространство не дидактично: тебя никуда не ведут, его нельзя апроприировать, ему нельзя подражать, и его нельзя до конца истолковать и тем самым исчерпать и закрыть, потому что оно одновременно противоречиво и цельно. И в этом смысле это и тренировка оптики читателя и исследователя, который сам должен оставаться в этом положении невовлеченности, наблюдения, как бы оставаться в зрительном зале.
Никак нельзя сказать, что работа над Аронзоном завершена и все неясности выяснены и всё объяснено. То есть читатели и исследователи находятся в той же позиции созерцания, что и автоперсонаж. Это, наверное, в том числе счастливый случай выйти из времени, приобщиться созерцательной неподвижности, легкого кружения, сегодня кажущегося старомодным.
И вместе с тем рай — это «пространство души», уже оторвавшейся от телесности в привычном смысле этого слова: телесность у Аронзона — одухотворена, божественна. Способность видеть райское пространство, сказать о пребывании в нем — в «мире души» — оказывается связанной не только с проблемой времени, но и со сложностью самоидентификации: автоперсонаж Аронзона мыслится пережившим смерть и обретшим свое «я» в окружающем его пейзаже или — парадоксально — автопортрете. Обступающая героя зримость только и может подтвердить его присутствие в ней, точно так же как только ему предоставлено увидеть раскрывшийся перед его мысленным взором мир. Герой Аронзона есть, когда он видит зримое, но зримого самого по себе нет, как бы нет.
И всё же мир Аронзона искусственный, то есть он сотворен — изображен в словах. Творцов как минимум два: это Создатель и это поэт. Создатель — Бог, как некая первичная инстанция, к которому Аронзон обращается часто. Поэт — та инстанция, которая передаёт это нам, и поэта в основном не следует смешивать с персонажем.
Исходя из Божественной природы сотворенного мира, понятно, почему одной из констант поэтического мира Аронзона является красота — во многом идеальная сущность, в силу чего она не только недоступна разрушению, но и остается нетронутой, когда вблизи нее пребывает персонаж. Более того, он способствует открытию красоты, ее выявлению, и в этом смысле сопричастен творению.
Созерцание прекрасного, сколь бы мало оно ни длилось, оказывается тождественным богоявлению, и это созерцание как высшее делание, необходимая часть творчества, никак не может сопровождаться какой-либо деятельностью. Поэтому участники поэтического мира Аронзона, как правило, статичны; может быть подвижен окружающий мир, но никак не персонаж, сосредоточенный на красоте пейзажа, тела или произведения искусства. Открывающееся зрению прекрасное мыслится единственным, как единственным может быть и миг такого открытия.
Единственность, уникальность — как воплощения красоты, так и его созерцающего персонажа — сопровождается в этих стихах одиночеством, наиболее адекватным языком которого и оказывается молчание. Молчание у Аронзона имеет скорее позитивное значение, как и пустота, что сообщает его поэтическому высказыванию мистический оттенок: согласно биполярной структурированности этого мира, чувственно ощущаемая пустота подразумевает полноту, постоянную потенциальность. Можно говорить, что одно из свойств молчания, на котором сосредоточен поэт, заключается в том, чтобы дать объекту своего созерцания проявить себя во всей своей уникальности и максимально полно. Но открыться эта полнота может только отрешенному взгляду. Отчасти это объясняет, что понимается в поэзии Аронзона под состоянием смерти — «внутреннего хронотопа», для описания которого поэт прибегает к условности, театрализуя ситуацию замершего времени. Смерть как состояние у Аронзона амбивалентна и тем сближается с такими состояниями, как пустота. В пустоте и смерти невозможна речь, отсюда и молчание.
Однако молчание у Аронзона выступает признаком присутствия в раю, в засмертном пространстве, где душа обитает уже без физического тела, лишь в его оболочке. Свойственный поэту диалогизм, диалогическое проникновение в предстоящее взору персонажа, выводит его за пределы личного «я», где и осуществляется приобщение к тому, что связывает близких по духу в некое сотворческое «мы». Этот поэтический мир порождает ситуацию двойничества, когда персонажи отражаются друг в друге и в себе самих, не имея возможности обрести окончательность, конечность.
Атмосферу, в которой существует персонаж Аронзона, было бы правильно определить как некое безвоздушное пространство, как некий очень разреженный воздух с одной стороны, но, с другой — для этого пространства и для существования в нем характерно ощущение очень глубокого дыхания. Дыхания, не нарушаемого быстрым ходом, когда все именно замедленно. И нельзя ускорением нарушать этого медленного хода. Это условие закрытости, это и ритуал сада. Так происходит бесконечное восхождение на вершину холма, выступающее сюжетом стихотворения «Утро», — восхождение к «внутреннему небу».
Недаром Ольга Седакова говорила об Аронзоне как поэте кульминации. Для Аронзона очень характерно такое: «прервать уже не в силах наслажденье». «Прервать не в силах» — это непрерывность. Это важное для Аронзона «непрерывное Я», «непрерывность Я». Так и конца этой кульминации нет, кульминация непрерывна, но никогда нет развязки; одно раннее стихотворение так и начинается: «Развязки нет…» То есть этот сюжет находится в цикличности и вне линейного времени в том смысле, что он никогда не заканчивается, хотя и тяготеет к цикличности. Нет ни хэппи-энда, ни трагичного конца. И знаменитую строку: «чтоб застрелиться, тут не надо ничего», по-моему, следует читать и так, что стреляться не нужно, потому что все уже произошло: «Всюду так же, как в душе: еще не август, но уже». «Еще» и «уже» оказываются полюсами одновременности, и между ними непрерывно присутствует сюжет в своей онтологической незавершенности («ещё») и в то же время окончательной воплощенности («уже»). Не случаен и август как месяц Преображения, если вспомнить Пастернака. И смерть у Аронзона тоже амбивалентна. Пожалуй, это даже оптимистично. Его лирическое «Я» — это, собственно, сцена пространства души, где разыгрывается некое действо, которое непрерывно. Но сказать определенно, что такое «я» Аронзона и «я» у Аронзона, почти невозможно. Как и определить, где то место, то самое «здесь», о котором он вопрошает: «Здесь ли я?»
Вместе с тем в поэзии Аронзона мы сталкиваемся почти с театральной условностью: идет определенная игра на сцене перед зрителем (как в стихотворении «Гобелен»). А зритель — поэт Аронзон, не могущий быть вовлеченным и приглашающий читателя стать созерцателем этого действа, в котором актеры-персонажи уже живут в совершенно другом мире и дышат другим воздухом — разреженным, как будто они совершают восхождение. С обыденностью это никак не связано, с привычным бытом. И язык для описания этого бытия персонажей должен быть иным. В этом действе есть определенные законы сюжета, главный из которых — отсутствие развития, постоянные повторы. В сущности, это мир очень однообразный, как и мир рая однообразен, лишен развдоенности и дурной множественности. Тут нет ни интриги, ни конфликта. Ход действия задан с самого начала, и дальше происходит погружение в него, углубление.
Ситуация любви, любования. Восторг, экстаз от переживания красоты, потому что рай — это красота. То есть рай — это ощущение красоты предельной интенсивности. Персонаж полон ощущением красоты, прекрасного — можно сказать, настолько полон, что ему не надо ее внешней формы, уже не надо: он говорит, что «прекрасного нет, только тихо и радостно рядом». В это действо персонаж вовлекается и в то же время не хочет вовлекаться; наоборот, он хочет наблюдать его. Потому что, если ты вовлечен, ты не можешь наблюдать, ты начинаешь действовать, а он пассивен. Он хочет сохранить эту позицию наблюдателя, потому что иначе он не сможет рассказать об этом. Каждое вовлечение отменяет другое — созерцание. Потому что, будучи вовлечен в действие, он не может больше его наблюдать. И его центральная проблема в том, что, если описывать какое-то действие или состояние, в него вовлекаешься. Если описываешь природу, то оказываешься внутри этого ландшафта. А он не хочет оказываться внутри. Он не должен оказываться внутри. Для него естественная ситуация — это «ты стоишь вдоль прекрасного сада», именно вдоль, или именно «рядом», если вспомнить предыдущую цитату. Ему нужно быть с одной стороны — вне сада, вне того пространства, о котором надо сказать, потому что оно прекрасно.
Итак, с одной стороны у Аронзона — невовлечённость, а с другой стороны — острота переживания райского состояния у персонажа образуют центральный конфликт поэта. Грубо говоря, его герой никогда не может попасть в рай, хочет и не хочет одновременно. Потому что как только он в него попадает, он лишается способности о нём говорить. Он должен стоять «вдоль прекрасного сада», но никогда не в нём. Он может описывать то состояние, в котором он оказался, но для этого он должен из него выйти. И для того, чтобы это описание состоялось, Аронзон вводит фигуру автоперсонажа, удваиваемую фигурой двойника. Двойник появляется в том случае, когда поэту необходимо погрузить своего автоперсонажа в определённое состояние, в определённую историю, в определённую вовлечённость; двойник действует, способен на отношения. И эта конфигурация с двойником позволяет ему как бы оставаться одновременно наблюдателем и участником: «Изменяясь каждый миг, / я всему вокруг двойник», — в этом парадоксе из «Дуплетов» автоперсонаж «я» вступает в зеркальные отношения со своим двойником, с двойниками: «я» раздваивается, размножается. И потому возникают и «Два одинаковых сонета». Это опять-таки удвоение, и удвоение делает эту ситуацию условной. Автоперсонаж как бы подпускает своего двойника в любовники своей жены, а сам смотрит. И автоперсонаж смотрит на эту любовь — как на свою, но и не свою.
С точки зрения языка центральной становится проблема номинации. Когда мы называем что-то определенным именем, мы вовлекаемся в язык, мы начинаем им пользоваться, мы теряем дистанцию, оказываемся во власти автоматизма. Чтобы этого не произошло, нужно сделать всё максимально странным. И Аронзон деавтоматизирует язык традиционной русской поэзии. Он одновременно поэт классический, который пользуется классическими формами — сонета, например, и в то же время экспериментатор. Потому что по отношению к языку он, как поэт, должен сохранить такую же дистанцию, как его персонаж в отношении описываемого мира. Наверное, потому в этой поэзии поэтическая самоидентификация невозможна как окончательная и утверждается или апофатически, или в акте вопрошания, часто безответного. К слову сказать, у Аронзона есть несколько рисунков, на которых представлены фигуры, обозначенные не одним, а двумя, тремя контурами. Они — эти рисунки — свидетельствуют о том, что видим мы приблизительно, а говорим еще приблизительнее, тогда как убеждаем себя и других в том, что точны. И Аронзон не превращает это в обвинение в такой уверенности, в инвективу против уверенных, а пользуется этой неточностью как поводом для игры, предлогом для возникновения «юмора стиля».
Так Аронзон разрушает автоматизм традиционного лирического переживания и сохраняет на всех уровнях — на уровне действия, на уровне письма, на уровне чтения — эту дистанцию по отношению к языку и по отношению к лирическому канону, нигде не позволяя ей собой завладеть.
В поэзии Аронзон руководствуется идеалами красоты, назовем их, условно, пушкинскими или еще более старыми. То есть, он, так сказать, перепрыгивает модернизм и уходит в золотой век. Ведь золотой век — это тоже изображение определенного райского состояния. И этим можно объяснить классичность поэзии Аронзона.
Известно, что Вадим Вацуро высоко оценил поэзию Аронзона, видимо, найдя в ней продолжение того редкого случая, характерного для золотого века русской поэзии, — совпадения интенсивности переживания и способности это адекватно поэтически выразить.
Но при этом Аронзон постоянно разрушает эту классичность совершенно возмутительными с точки зрения обычного хорошего вкуса или даже нормального языкового восприятия вещами. Он обыгрывает поэтические штампы, нарочито использует клише, не стесняется демонстрации своей любви к графоманской поэзии. И одновременно он вводит в свою текстовую модель авангардистский эксперимент. Правда, в последние два года творчества он отказывается от такой броскости или расшатанности, уведя накопленное во внешне очень традиционный текст.
Можно сказать, что спектакль, начатый 60 с лишним лет назад Леонидом Аронзоном, все время продолжается. У этого спектакля нет конца, как нет и начала, но при этом есть постоянные действующие лица, есть ландшафт, есть пространство. Но это пространство не дидактично: тебя никуда не ведут, его нельзя апроприировать, ему нельзя подражать, и его нельзя до конца истолковать и тем самым исчерпать и закрыть, потому что оно одновременно противоречиво и цельно. И в этом смысле это и тренировка оптики читателя и исследователя, который сам должен оставаться в этом положении невовлеченности, наблюдения, как бы оставаться в зрительном зале.
Никак нельзя сказать, что работа над Аронзоном завершена и все неясности выяснены и всё объяснено. То есть читатели и исследователи находятся в той же позиции созерцания, что и автоперсонаж. Это, наверное, в том числе счастливый случай выйти из времени, приобщиться созерцательной неподвижности, легкого кружения, сегодня кажущегося старомодным.
1 – В своей работе я определяю его как «автоперсонаж». Конечно, можно говорить, что автор передает в том или ином стихотворении какие-то свои непосредственные переживания. Но сам он остается невовлеченным, для участия в действии у него есть фигура его автоперсонажа. Аронзон употребляет имена своих друзей, жены, делая их полноправными участниками своего мира.
Фотография – Юлия Токарева