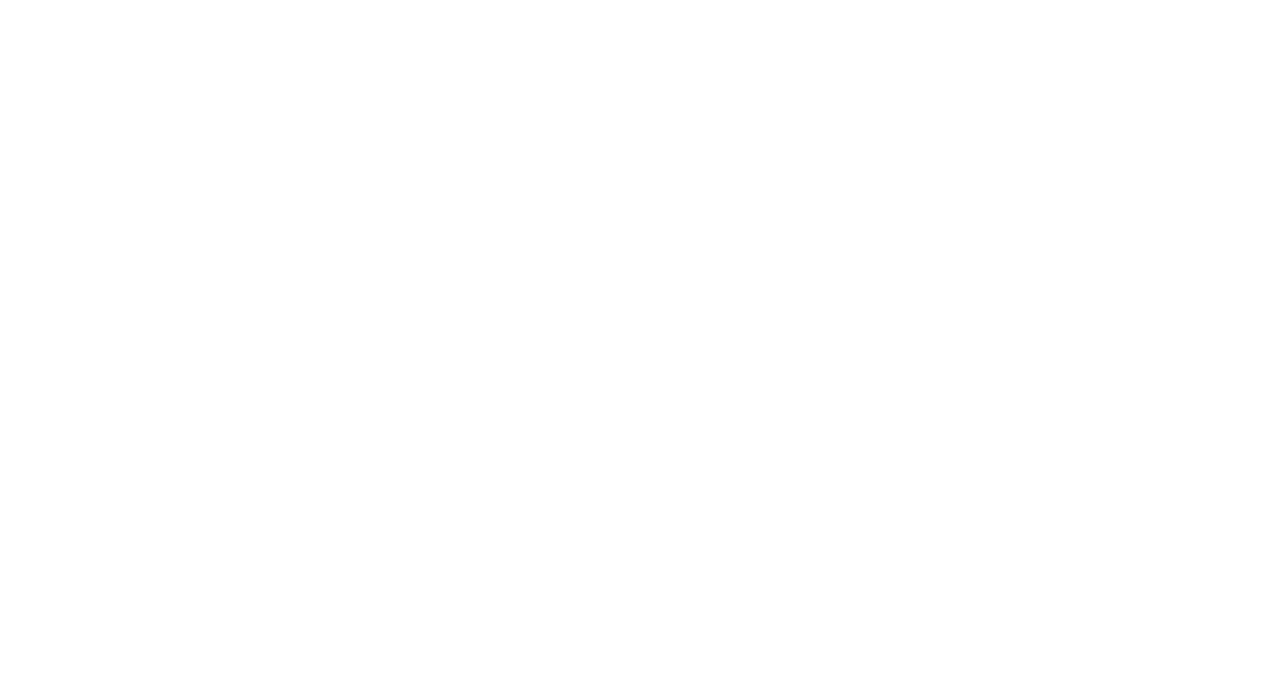эссе
Продолжение глаза
О стихах Джима Моррисона
пЕТР кОЧЕТКОВ
+18
...На поэзию Джима Моррисона было бы, кажется, интереснее всего посмотреть с точки зрения проблемы восприятия, проблемы (вынесения вперед, на свет, постановки под вопрос) природы взгляда (преломляющего свет, разбивающего мир на спектр цветов, создающего образы вещей) и природы воображения.
Первый поэтический сборник Моррисона (The Lords, Notes on Vision; на нем мы и остановим свое внимание, поскольку интересующая нас проблема в нем выведена наиболее явно) выходит, всего в ста экземплярах, в 1969 г. — с отсутствующей нумерацией страниц, или, вернее, небольших листов формата записки или письма. Форма книги концептуально задумывалась по аналогии с формой папки иностранного корреспондента — человека, который передает в свою страну новости из заграницы и находится, соответственно, одновременно вне передаваемых сведений-событий (смотрит на них с точки зрения «иностранца») и внутри них. Главной прагматической задачей такой формы было, скорее всего, остранение — ведь чисто тематически сборник целиком посвящен теме существования человека (и его зрения) в границах современного города, и составляющие его тексты мы получаем от лица, находящегося одновременно вовне и внутри «кольца смерти» («The city forms… a circle… A ring of death...»), внутри вездесущих и определяющих эти границы «камер» и «по ту сторону», там, где смотрящему удается направить взгляд на самого себя или ослепнуть.
Весь сборник, состоящий из небольших стихотворений в прозе, иногда занимающих не больше строки (и создающих впечатление фраз, произвольно доносящихся из пустоты, особенно если учесть, что страницы не пронумерованы)1 в общем и целом можно назвать своеобразной «критикой зрения». Эта «критика», построенная на весьма яркой системе противоречивых образов и парадоксов, пытается дойти до сути самой природы визуального — в том виде, в котором эта «природа» осуществляет себя в пространствах современного города, города-паноптикума, пространства повсеместной открытости зрению, города глаз, объективов, проекций, бесконечного воспроизведения и запечатления жизни.
Будучи хотя бы поверхностно осведомленным в основных линиях левой критической мысли XX в., нельзя не заметить, что Моррисон, по всей видимости самостоятельно поэтически доходя до все тех же идей, согласуется, или идет в ногу, с такими критиками медиа и их инкорпорированности в городское существование, как В. Беньямин, Ги Дебор и, уже в 80-ые годы, Жан Бодрийяр — если вспоминать только самое очевидное; остановимся на этом чуть подробнее.
Книга Ги Дебора «Общество спектакля» была написана в 1967 г., то есть за два года до выхода в печать сборника Моррисона (который писал вошедшие в него тексты еще в начале 1960-ых, учась на кинематографическом факультете). Приведем, для наглядности, некоторые тезисы из нее:
«Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное нагромождение спектаклей. Все, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление…»;
«Реальность, рассматриваемая по-частям, разворачивается в своем обобщенном единстве в качестве особого псевдо-мира, подлежащего только созерцанию. Специализация образов мира оказывается завершенной в ставшем автономным мире образов, где обманщик лжет себе самому…»;
«Спектакль… Это объективировавшееся видение мира… Он – солнце, никогда не заходящее над империей современной пассивности. Он покрывает всю поверхность мира и беспредельно купается в собственной славе…»;
«Общество, базирующееся на современной индустрии, не является зрелищным случайно или поверхностно – в самой своей основе оно является зрительским… Спектакль не стремится ни к чему иному, кроме себя самого...»2; и т. д.3
Другим, как кажется, важным «спутником» в осмыслении того поля зрения, внутри которого создавались эти тексты, следует назвать В. Беньямина — и даже не в его работах по теории медиа, а, в первую очередь, в его «Бодлере». Моррисон, именно и прежде всего как автор текстов, а не как эпатажный исполнитель песен, рок-звезда и т. п., может быть, на мой взгляд, отнесен к появившемуся еще в раннем модернизме понятию «про΄клятых поэтов» — если под ним понимать не столько то, что имел в виду Поль Верлен, а то, что Беньямин писал о Бодлере как о поэте «шоковых ситуаций», становящихся частью повседневной жизни человека большого города. Под «шоковой ситуацией» в целом можно считать любое столкновение сознания с «жизнью», там, где сама «жизнь» находится вне существующих в сознании образных рамок и границ привычного опыта. Шоковая суть существования раскрывается для нас, в основном, в сновидениях, в которых сознание пытается, как выражается Беньямин, «амортизировать» шок с помощью образов и вторичного переживания.
Для поэтов, наследующих этой традиции «прóклятости» (то есть, по сути, добровольно или вынужденно взятой на себя обязанности вечно спать «с открытыми глазами», быть внутри и вовне, творить образы как «фехтовать» с реальностью, «отражать» ее удары), на первом месте стоит противопоставление «материи» и «памяти» (поскольку любое воспоминание есть вторичное воспроизведение в образах произошедшего), «жизни» и «сознания», «процесса» и «рефлексии» (букв. «отражения»); крайне важным подобного рода противопоставление является и для Моррисона, противопоставлявшего «страх» переживания жизни как таковой любому «амортизирующему» и апроприирующему эту жизнь «образу».
При этом, нельзя не сказать, что для В. Беньямина, одного из главных философов прошлого века, размышлявших об особенностях существования человека в городской среде, именно жизнь в большом индустриальном городе рождает ту раздробленность и дискретность восприятия, которая и порождает зацикленность субъекта на «шоке». Вот достаточно характерная цитата из его работы по Бодлеру, которую здесь будет уместно привести: «Среди бесчисленного множества движений, вроде поворота рычажка, опускания монеты, нажатия кнопки и т. п., особенно значимым по своим последствиям оказалось “щелканье” фотоаппаратом. Одного движения пальцем оказалось достаточно, чтобы запечатлеть мгновение навечно. Аппарат вызывал у мгновения, так сказать, посмертный шок… Передвижение по городу подразумевает для индивида серию шоковых переживаний и коллизий. На опасных перекрестках его пронизывают быстрые последовательности нервных импульсов, подобных электрическим ударам. Бодлер, описывая шоковое ощущение, называет человека, погружающегося в толпу, “калейдоскопом, наделенным сознанием”… Настал день, когда ответом на новую и настоятельную потребность в раздражителе стало кино. В кино шоковое восприятие становится формальным принципом»4.
Теперь, после подобного рода введения, перейдем к рассмотрению самого сборника и некоторых его текстов, начав с того, которым сборник и открывается:
Look where we worship. We all live in the city.
The city forms – often physically, but inevitably
psychically – a circle. A Game. A ring of death
with sex at its center. Drive towards outskirts
of city suburbs. At the edge of discover zones of
sophisticated vice and boredom, child prostitution.
But in the grimy ring immediately surrounding
the daylight business district exists the only
real crowd life of our mound, the only street
life, night life. Diseased specimens in dollar
hotels, low boarding houses, bars, pawn shops,
burlesques and brothels, in dying arcades which
never die, in streets and streets of all-night
cinemas.
The city forms – often physically, but inevitably
psychically – a circle. A Game. A ring of death
with sex at its center. Drive towards outskirts
of city suburbs. At the edge of discover zones of
sophisticated vice and boredom, child prostitution.
But in the grimy ring immediately surrounding
the daylight business district exists the only
real crowd life of our mound, the only street
life, night life. Diseased specimens in dollar
hotels, low boarding houses, bars, pawn shops,
burlesques and brothels, in dying arcades which
never die, in streets and streets of all-night
cinemas.
Смотри. где мы поклоняемся. Мы все живем в городе.
Город образует — часто физически, но неизбежно
психически — круг. Игру. Кольцо смерти
с ****** в его центре. Поезжай к предместьям
городских окраин. На краю зон узнавания
изощренного греха и скуки, детская ***********.
Но в грязно-сером кольце непосредственно окружающем
дневной деловой район существует единственная
реальная массовая жизнь нашего холма, единственная уличная
жизнь, ночная жизнь. Больные типы в долларных
отелях, эконом пансионах, барах, ломбардах,
бурлесках и публичных домах, в умирающих торговых галереях что
никогда не умирают, в улицах и улицах
работающих всю ночь кинотеатров.5
Город образует — часто физически, но неизбежно
психически — круг. Игру. Кольцо смерти
с ****** в его центре. Поезжай к предместьям
городских окраин. На краю зон узнавания
изощренного греха и скуки, детская ***********.
Но в грязно-сером кольце непосредственно окружающем
дневной деловой район существует единственная
реальная массовая жизнь нашего холма, единственная уличная
жизнь, ночная жизнь. Больные типы в долларных
отелях, эконом пансионах, барах, ломбардах,
бурлесках и публичных домах, в умирающих торговых галереях что
никогда не умирают, в улицах и улицах
работающих всю ночь кинотеатров.5
Крайне важным для всего сборника в целом здесь выступает образ «кольца смерти», круга, город как сковывающее кольцо смерти, из которого нет выхода (так, что «ночная жизнь», поначалу якобы противопоставленная дневной, в конце оказывается такой же зоной власти света и зрения, манифестированных кинозалом). Образ смертоносного кольца оказывается основным и для метафорического осмысления природы зрения, связываемого с природой смерти и природой власти (почему, на мой взгляд, сборник и называется «Властелины» (The Lords) – то есть, речь идет о тех фигурах или инстанциях, которые управляют движением нашего внимания, или же, шире, — о претензиях человека на всеобъемлющую визуальную власть над миром в целом6).
It takes large murder to turn rocks in the shade
and expose strange worms beneath. The lives of
our discontented madmen are revealed.
and expose strange worms beneath. The lives of
our discontented madmen are revealed.
Нужно крупное убийство чтобы повернуть камни в тени
и обнажить странных червей под ними. Жизни
наших недовольных сумасшедших явлены на свет.
и обнажить странных червей под ними. Жизни
наших недовольных сумасшедших явлены на свет.
Можно сказать, что между зрением как процессом объективирования, как вскрытием тайны, как обнажением, и убийством ставится знак равенства. Очевидно, что выявляющее действие камеры здесь противопоставляется как темноте и слепоте нечеловеческих существ, так и замкнутости существующих вне медийности «сумасшедших», и само действие «выявления» оказывается сродни искусственно моделируемому псевдо-откровению, получаемому из новостей («revealed» и «revelation»).
Следующий текст напрямую осмысляет камеру как принадлежность «Властелина», как инструмент в псевдо-воплощаемом желании человека стать «богом»:
Следующий текст напрямую осмысляет камеру как принадлежность «Властелина», как инструмент в псевдо-воплощаемом желании человека стать «богом»:
Camera, as all-seeing god, satisfies our longing
for omniscience. To spy on others from this
height and angle: pedestrians pass in and out of
our lens like rare aquatic insects.
Yoga powers. To make oneself invisible or small.
To become gigantic and reach to the farthest things.
To change the course of nature. To place oneself
anywhere in space or time. To summon the dead.
To exalt senses and perceive inaccessible images,
of events on other worlds, in one’s deepest inner
mind, or in the minds of others.
The sniper’s rifle is an extension of his eye. He
kills with injurious vision.
for omniscience. To spy on others from this
height and angle: pedestrians pass in and out of
our lens like rare aquatic insects.
Yoga powers. To make oneself invisible or small.
To become gigantic and reach to the farthest things.
To change the course of nature. To place oneself
anywhere in space or time. To summon the dead.
To exalt senses and perceive inaccessible images,
of events on other worlds, in one’s deepest inner
mind, or in the minds of others.
The sniper’s rifle is an extension of his eye. He
kills with injurious vision.
Камера, как всевидящее божество, удовлетворяет нашу тоску
по всеведению. Следить за другими с этих
высоты и угла: пешеходы проходят внутри
наших линз как редкие водные насекомые.
Силы йоги. Сделаться невидимым или малым.
Стать огромным и дотянуться до самых дальних вещей.
Изменить ход природы. Поместить себя
где-либо в пространстве и времени. Призывать мертвых.
Возвышать чувства и воспринимать недоступные воображению
события в других мирах, в собственном глубочайшем внутреннем
сознании, или в сознании других.
Винтовка снайпера есть продолжение его глаза. Он
убивает ранящим7 зрением.
по всеведению. Следить за другими с этих
высоты и угла: пешеходы проходят внутри
наших линз как редкие водные насекомые.
Силы йоги. Сделаться невидимым или малым.
Стать огромным и дотянуться до самых дальних вещей.
Изменить ход природы. Поместить себя
где-либо в пространстве и времени. Призывать мертвых.
Возвышать чувства и воспринимать недоступные воображению
события в других мирах, в собственном глубочайшем внутреннем
сознании, или в сознании других.
Винтовка снайпера есть продолжение его глаза. Он
убивает ранящим7 зрением.
Можно сказать, что камера предстает как эрзац получения «сакральных», или, если пользоваться словарем Моррисона, «шаманских», магических способностей контроля над миром. Автор этих текстов, таким образом, выявляет, как бы обращая работу камеры на нее саму, мифологическую основу технократического медийного мышления, его желаний и целей.
Продолжая все тот же процесс осмысления природы зрения в его связи с природой смерти и «убийства», Моррисон, вслед за образами «кольца» (круга, «зрачка») смерти, «винтовки» как продолжения глаза, вводит, в следующих текстах, фигуру убийцы («убийцы», вне различения между тем и другим) как неотъемлемую часть городского пространства:
Продолжая все тот же процесс осмысления природы зрения в его связи с природой смерти и «убийства», Моррисон, вслед за образами «кольца» (круга, «зрачка») смерти, «винтовки» как продолжения глаза, вводит, в следующих текстах, фигуру убийцы («убийцы», вне различения между тем и другим) как неотъемлемую часть городского пространства:
The assassin(?), in flight, gravitated with
unconscious, instinctual insect ease, moth-
like, toward a zone of safety, haven from the
swarming streets. Quickly, he was devoured
in the warm, dark, silent maw of the physical
theater.
unconscious, instinctual insect ease, moth-
like, toward a zone of safety, haven from the
swarming streets. Quickly, he was devoured
in the warm, dark, silent maw of the physical
theater.
Убийца(?)8, в бегах, притягиваемый
бессознательным, инстинктивным насекомым покоем, подобно мотыльку, к зоне безопасности, гавани от
кишащих улиц. Быстро, он был поглощен
в теплой, темной, тихой челюсти физического
театра.
бессознательным, инстинктивным насекомым покоем, подобно мотыльку, к зоне безопасности, гавани от
кишащих улиц. Быстро, он был поглощен
в теплой, темной, тихой челюсти физического
театра.
Modern circles of Hell: Oswald(?) kills President.
Oswald enters taxi. Oswald stops at rooming house.
Oswald leaves taxi. Oswald kills Officer Tippitt.
Oswald sheds jacket. Oswald is captured.
He escaped into a movie house9.
Oswald enters taxi. Oswald stops at rooming house.
Oswald leaves taxi. Oswald kills Officer Tippitt.
Oswald sheds jacket. Oswald is captured.
He escaped into a movie house9.
Современные круги Ада: Освальд(?) убивает Президента.
Освальд садится в такси. Освальд останавливается у гостиницы.
Освальд покидает такси. Освальд убивает офицера Типпитта.
Освальд сбрасывает куртку. Освальд заснят.
Он скрылся в кинозале.
Освальд садится в такси. Освальд останавливается у гостиницы.
Освальд покидает такси. Освальд убивает офицера Типпитта.
Освальд сбрасывает куртку. Освальд заснят.
Он скрылся в кинозале.
Как можно было заметить, Моррисон в своих текстах нередко обращается к образам внечеловеческих существ. В текстах выше мы встречались с метафорическим уподоблением насекомых и людей: то в качестве объектов наблюдения (pedestrians pass in and out of / our lens likerare aquatic insects; to turn rocks in the shade / and expose strange worms beneath), то в качестве субъектов, норовящих в любой момент потерять субъектность и стать частью среды (with unconscious, instinctual insect ease, moth-like,.. from the swarming streets. Quickly, he was devoured / in the warm, dark, silent maw…).
Очевидно, что образы и метафоры насекомых имеют амбивалентный характер и напрямую связаны с проблемой природы зрения. Так, с одной стороны, прячущиеся в тени черви в принципе лишены привычного для нас зрения и потому представляют собой своего рода «белое пятно» для визуально-центристской цивилизации (как бы вынесенное за скобки и в то же время интригующее, требующее «раскрытия»); с другой стороны, насекомые типа мотылька, с которым сравнивается стоящий под вопросом убийца, наделены зрением, можно сказать, «в высшей степени», являются самим «воплощением» зрительного и потому очевидным членом метафоры в текстах на эту тему10. Убийца-мотылек, как уже было отмечено, в конце текста лишается (изначально мнимой и поставленной под вопрос) субъектности, убегая в сторону света, от «кишащей толпы», но неизбежно оказываясь за щекой «физического театра» (сама формулировка, разумеется, разрушает границы между телесным, «природным», и медийным, репрезентирующим, между «театром» и «жизнью», в соответствии с отсутствием этих границ в пространстве города).
Привлечение мотылька в контексте размышления над феноменом искусственного/технического зрения (которое, для Моррисона, сущностно в случае человека есть «продолжение» зрения «естественного») заставляет задуматься на очевидным фактом работы зрения вообще: и фасеточные глаза мотылька, и любого рода камера, и человеческий зрачок работают, как известно, сходным образом — поглощая свет, который отражают другие предметы (собственно, почему человеческий зрачок и черен, будучи точкой поглощения света). В этом сборнике есть достаточно красноречивый текст на эту тему:
Очевидно, что образы и метафоры насекомых имеют амбивалентный характер и напрямую связаны с проблемой природы зрения. Так, с одной стороны, прячущиеся в тени черви в принципе лишены привычного для нас зрения и потому представляют собой своего рода «белое пятно» для визуально-центристской цивилизации (как бы вынесенное за скобки и в то же время интригующее, требующее «раскрытия»); с другой стороны, насекомые типа мотылька, с которым сравнивается стоящий под вопросом убийца, наделены зрением, можно сказать, «в высшей степени», являются самим «воплощением» зрительного и потому очевидным членом метафоры в текстах на эту тему10. Убийца-мотылек, как уже было отмечено, в конце текста лишается (изначально мнимой и поставленной под вопрос) субъектности, убегая в сторону света, от «кишащей толпы», но неизбежно оказываясь за щекой «физического театра» (сама формулировка, разумеется, разрушает границы между телесным, «природным», и медийным, репрезентирующим, между «театром» и «жизнью», в соответствии с отсутствием этих границ в пространстве города).
Привлечение мотылька в контексте размышления над феноменом искусственного/технического зрения (которое, для Моррисона, сущностно в случае человека есть «продолжение» зрения «естественного») заставляет задуматься на очевидным фактом работы зрения вообще: и фасеточные глаза мотылька, и любого рода камера, и человеческий зрачок работают, как известно, сходным образом — поглощая свет, который отражают другие предметы (собственно, почему человеческий зрачок и черен, будучи точкой поглощения света). В этом сборнике есть достаточно красноречивый текст на эту тему:
She said, "Your eyes are always black". The pupil
opens to seize the object of vision.
opens to seize the object of vision.
Она сказала, «Твои глаза всегда черные». Зрачок
раскрыт для захвата объекта ви́дения.
раскрыт для захвата объекта ви́дения.
Расширяющийся зрачок готовится вобрать, поглотить, захватить в себя объект желания, в который превращается «она» как субъект речи (в каком-то смысле, зрение само для себя является «слепой зоной», выявляясь и «осплепляясь» именно там, где оно, как в этих текстах, направлено само на себя).
Как известно, зрение расслаивает реальность на отражающие свет объекты восприятия, помогая сознанию рождать образы; во вторичной действительности медиа образ становится самой неотъемлемой частью ткани, которая сплетается в процессе отражения и овладения реальным. Критика «образа» как такового также играет в сборнике значительную роль:
Как известно, зрение расслаивает реальность на отражающие свет объекты восприятия, помогая сознанию рождать образы; во вторичной действительности медиа образ становится самой неотъемлемой частью ткани, которая сплетается в процессе отражения и овладения реальным. Критика «образа» как такового также играет в сборнике значительную роль:
Imagery is born of loss. Loss of the ”friendly
expanses”. The breast is removed and the face
imposes its cold, curious, forceful, and inscrutable
presence.
expanses”. The breast is removed and the face
imposes its cold, curious, forceful, and inscrutable
presence.
Образность рождается из потери. Потери «дружеских просторов»11. Грудь устранена и лицо навязывает свое холодное, любопытное, насильственное, и непроницаемое
присутствие.
присутствие.
Образность здесь выступает в качестве результата работы «замещения», призванного справиться с черной точкой, слепой зоной тревоги и страха (вспомним приводимые выше размышления Беньямина о «шоке»). Однако при полном вымещении страха остается лишь «лицо без тела», лицо как пространство зрения, навязывающего свое безжизненное и одностороннее присутствие непротивящейся материи, всегда неизбежно связанной с бесконечным переживанием «потери».
Бесконечность и принципиальная незамещаемость «потери» связана и с «дурной», кругообразной бесконечностью образов (которую отмечал и Дебор, говоря о «спектакле» как о самодовлеющем действе, чему посвящен и направленный на саму природу «образного» образ тасующего самому себе карты из следующего текста), пытающихся заполнить «слепое пятно» в восприятии:
Бесконечность и принципиальная незамещаемость «потери» связана и с «дурной», кругообразной бесконечностью образов (которую отмечал и Дебор, говоря о «спектакле» как о самодовлеющем действе, чему посвящен и направленный на саму природу «образного» образ тасующего самому себе карты из следующего текста), пытающихся заполнить «слепое пятно» в восприятии:
French Deck. Solitary stroker of cards. He
dealt himself a hand. Turn stills of the past in
unending permutations, shuffle and begin. Sort
the images again. And sort them again. This
game reveals germs of truth, and death.
The world becomes an apparently infinite, yet
possibly finite, card game. Image combinations,
permutations, comprise the world game.
dealt himself a hand. Turn stills of the past in
unending permutations, shuffle and begin. Sort
the images again. And sort them again. This
game reveals germs of truth, and death.
The world becomes an apparently infinite, yet
possibly finite, card game. Image combinations,
permutations, comprise the world game.
Французская колода. Одинокий побиватель карт. Он
раздал сам себе. Поворачивай снимки прошлого в
нескончаемых перестановках, тасуй и начинай. Разбирай
образы снова. И разбирай их снова. Эта
игра являет зачатки правды, и смерти.
Мир становится внешне бесконечной, но
возможно конечной, карточной игрой. Комбинации образов,
перестановки, составляют мировую игру.
раздал сам себе. Поворачивай снимки прошлого в
нескончаемых перестановках, тасуй и начинай. Разбирай
образы снова. И разбирай их снова. Эта
игра являет зачатки правды, и смерти.
Мир становится внешне бесконечной, но
возможно конечной, карточной игрой. Комбинации образов,
перестановки, составляют мировую игру.
A mild possession, devoid of risk, at bottom
sterile. With an image there is no attendant
danger.
sterile. With an image there is no attendant
danger.
Мягкое обладание, опустошенное от риска, в глубине
бесплодное. С образом исчезает сопутствующая
опасность.
бесплодное. С образом исчезает сопутствующая
опасность.
Film confers a kind of spurious eternity.
Фильм дарует нечто вроде фальшивой вечности.
The appeal of cinema lies in the fear of death.
Привлекательность кино заключается в страхе смерти.
Все эти тексты и «афоризмы» (выбранные здесь лишь как пример, учитывая цельность сборника можно было бы привести и другие) указывают нам на один и тот же процесс работы «воображаемого», рождающегося из столкновения с «реальным», волю к власти, волю к вечности и волю к всевидению как неотъемлемые составляющие современного медийного и шире (так как одно уже неотличимо от другого) «естественного» человеческого восприятия.
При этом, сама по себе тема «бесконечности» тянет нас уже за пределы чисто поэтических размышлений о природе зрительного — а именно к названию еще не существовавшей на момент написания этих текстов рок-группы. Если прослеживать путь этого названия к его первоисточнику, а именно к «Браку рая и ада» У. Блейка, то мы получим оттуда такую цитату: «If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, Infinite. For man hasclosed himself up, till he sees all things thro' narrow chinks of his cavern» (Если бы двери восприятия были очищены, всякая вещь явилась бы человеку как она есть, Бесконечной. Ибо человек запер сам себя, так что видит все вещи сквозь узкие щели своей пещеры). Однако явление и погружение в бесконечность Реального, в Бесконечность, лежащую по ту сторону восприятия, является уже «темой» и задачей песен и стремящихся к «тотальному искусству» выступлений, направленных к «ноуменальному» — а не «критической» поэзии, указывающей взгляду его погрешности и границы.
При этом, сама по себе тема «бесконечности» тянет нас уже за пределы чисто поэтических размышлений о природе зрительного — а именно к названию еще не существовавшей на момент написания этих текстов рок-группы. Если прослеживать путь этого названия к его первоисточнику, а именно к «Браку рая и ада» У. Блейка, то мы получим оттуда такую цитату: «If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, Infinite. For man hasclosed himself up, till he sees all things thro' narrow chinks of his cavern» (Если бы двери восприятия были очищены, всякая вещь явилась бы человеку как она есть, Бесконечной. Ибо человек запер сам себя, так что видит все вещи сквозь узкие щели своей пещеры). Однако явление и погружение в бесконечность Реального, в Бесконечность, лежащую по ту сторону восприятия, является уже «темой» и задачей песен и стремящихся к «тотальному искусству» выступлений, направленных к «ноуменальному» — а не «критической» поэзии, указывающей взгляду его погрешности и границы.
1 – При этом с пустотностью листа достаточно явно контрастирует надпись внизу каждой страницы, напоминающая нам, что книга принадлежит ее автору и «все права защищены».
2 – Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. М.: Изд. «Логос» 1999. С. 13-15.
3 – Кажется маловероятным, чтобы Моррисон мог быть непосредственно знаком с содержанием книги после ее выхода, однако, как мы вскоре увидим, его собственные поэтические поиски во многом являются продолжением такого рода критики.
4 – О некоторых мотивах у Бодлера / Бодлер. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 144-145.
5 – Зд. и дал. пер. мой, П.К.
6 – Как в своем важнейшем для темы одноименном эссе называл это П. Валери, «Завоевание вездесущности».
7 – В оригинале, по всей видимости, игра слов вокруг различных значений слова injurious.
8 – Вопросительный знак, являющийся частью текста, по всей видимости, в соответствии с общим посылом, подвешивает субъектно-объектные отношения, ставя вопрос о первоначальном и главном субъекте «убийства», а также о субъектности подразумеваемого «убийцы», делая его своего рода «симулякром».
9 – Нельзя не отметить аналогию между «rooming house» и «movie house», объединенных общей симуляционностью, искусственностью и вторичностью по отношению к вынесенной за скобки внепроизводственной реальности.
10 – Напр. «Мы прошли разряды насекомых / С наливными рюмочками глаз» из «Ламарка» ОМ.
11 – Термин психоаналитика М. Балинта, обозначающий восприятие открытого пространства в качестве «дружелюбного» вследствие процесса «переноса».
2 – Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. М.: Изд. «Логос» 1999. С. 13-15.
3 – Кажется маловероятным, чтобы Моррисон мог быть непосредственно знаком с содержанием книги после ее выхода, однако, как мы вскоре увидим, его собственные поэтические поиски во многом являются продолжением такого рода критики.
4 – О некоторых мотивах у Бодлера / Бодлер. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 144-145.
5 – Зд. и дал. пер. мой, П.К.
6 – Как в своем важнейшем для темы одноименном эссе называл это П. Валери, «Завоевание вездесущности».
7 – В оригинале, по всей видимости, игра слов вокруг различных значений слова injurious.
8 – Вопросительный знак, являющийся частью текста, по всей видимости, в соответствии с общим посылом, подвешивает субъектно-объектные отношения, ставя вопрос о первоначальном и главном субъекте «убийства», а также о субъектности подразумеваемого «убийцы», делая его своего рода «симулякром».
9 – Нельзя не отметить аналогию между «rooming house» и «movie house», объединенных общей симуляционностью, искусственностью и вторичностью по отношению к вынесенной за скобки внепроизводственной реальности.
10 – Напр. «Мы прошли разряды насекомых / С наливными рюмочками глаз» из «Ламарка» ОМ.
11 – Термин психоаналитика М. Балинта, обозначающий восприятие открытого пространства в качестве «дружелюбного» вследствие процесса «переноса».