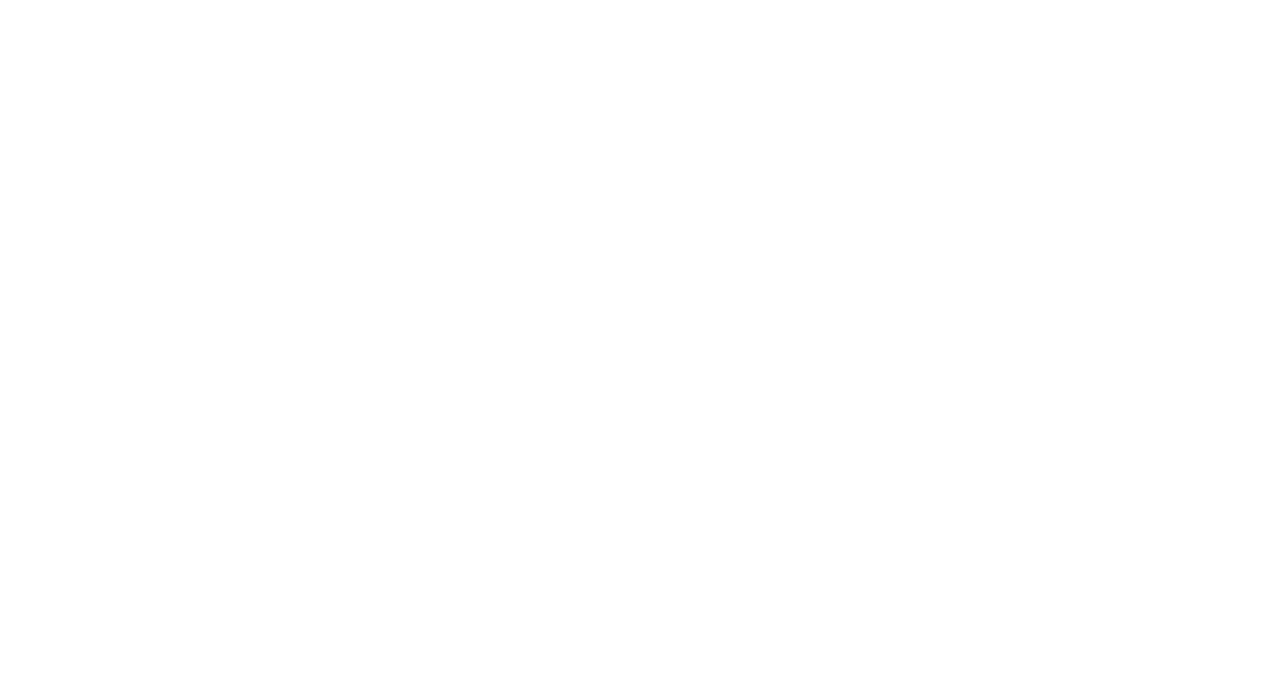эссе
УТРО
ксения голубович
Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма,
как и легок, и мал он, венчая вершину лесного холма!
Чей там взмах, чья душа или это молитва сама?
Нас в детей обращает вершина лесного холма!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
и вершину холма украшает нагое дитя!
Если это дитя, кто вознес его так высоко?
Детской кровью испачканы стебли песчаных осок.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о рае венчает вершину холма!
Не младенец, но ангел венчает вершину холма,
то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!
Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник,
нас вершина холма заставляет упасть на колени,
на вершине холма опускаешься вдруг на колени!
Не дитя там – душа, заключенная в детскую плоть,
не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
посмотри на вершины: на каждой играет дитя!
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о Боге венчает вершину холма!
1966
После замечательного эссе Ольги Седаковой «Леонид Аронзон – поэт кульминации» мне всерьез нечего было бы добавить к сказанному. Особенно пронзает то место, где, рассуждая о том, что кульминация классической формы в поэзии проходит по «золотому сечению». Если это восьмистишие – то это, например, 5-6 строфы, с которых и надо читать. Она отмечает как много сказано раз слово «вершина», и что «холм» – culmen – и есть имя «кульминации». Аронзон – «пленник холмов», то есть тот, кто настолько невыразимо счастлив там, в иной, второй, реальности, что хода назад уже нет. Высшая точка – как центр вращения – является же и местом пленения говорящего. Причем таким пленением может быть и куст, и любая вещь, которая вдруг являет себя как храм реальности.
Это настолько полный анализ, что мне не хотелось и не моглось бы к нему чего-то добавить. Тем более, что само стихотворение я впервые увидела в так и не изданной хрестоматии русской поэзии, которую Ольга Седакова собрала по 60-80 гг. ХХ века. И там «Утро» Аронзона находится в числе лучших стихов, написанных на русском языке. Жемчужина.
Я бы, пожалуй, и не хотела ничего сказать больше, если бы не чувствовала, что меня все время еще что-то цепляет, что-то еще есть и оставлено как подарок в месте кульминации. И это, пожалуй, самое начало – слово «каждый».
Поэзия – особенно зрелая силлабо-тоника – состоит из сильных и слабых мест. Она – буквально то, что дает прозвучать любому слову на своем месте так, что ты как будто впервые его разглядываешь и ему удивляешься, как вскрываемому типу смыслового движения.
Ольга Александровна сравниват с Аронзоном его «брата» во времени Пауля Целана, тоже своеобразного поэта «кульминации», высшей точки. Так вот, у Целана на этом месте ведущее слово «Никто».
Так, как звучит слово «Каждый» у Аронзона, на низком ударе, в неожиданной слышимости Низкого А, посреди глухого заднего «К», стягивающего переднего «Ж», и близкого небному и жестко утверждающему «Д» – «Каждый» – похож на отталкивающийся шаг. На удар ступни, в который действительно может встать «Каждый».
Удивительность настоящего произведения всегда в том, что оно буквально исполняет то, что говорит. И это исполнительское искусство поэзии заключено всегда внутри ее же рассказов и повестей. Можно сказать, что поэзия танцует поверх самой себя. Делает – согласно своему наименованию (от греч. Poeo – делать) – то, что говорит. Только тогда она и звучит и звук реален – мы это чувствуем. Как и чувствуем то, что в первом же слове у Аронзона наша ступня попадает в его первое слово, в его след.
«Каждый» – и ты, и я.
Потом – дальше в стихе – к нам будут обращаться, обучать.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Как будто Аронзон совершенно уверен в том, что ровно это мы и будем делать – собирать букет. Ровно это и делает каждый из нас. Он еще к тому же уверен, что мы любим холмы. Что взгляд человека не может на них не смотреть.
Когда-то побывав на семинаре Федерико Феллини, советские режиссеры Наумов и Алов с удивлением передавали такой опыт. Феллини поставил перед ними одну из своих любимых киногероинь – огромную женщину-табачницу из Амаркорда – ее фигура – крутая, объемная, плотная, обтянутая одеждой – завораживала и пугала глаз. И он объяснял, что «кино» – это прежде всего фиксация того, на что человек любит смотреть, не может не смотреть. Он попросил актрису надеть кобуру на бедра и сказал: «теперь двигайся», – и оторваться от такого зрелища было нельзя. Вопрос, конечно, остается – а на что же мы смотрим, когда видим это. И появление этой странной земной богини в разных местах феллиневского мира, постепенно идущего к упадку, могло бы нам рассказать кое-что о сути такого зрелища.
Леонид Аронзон тоже выделяет нечто, что мы можем представить себе, как будто в каталоге любимых образов. «Холм» – визуально это место, где земля становится круглой, она закругляется и словно бы показывает свое подлинное устройство, свою сферичность. Холм присутствует и во внутренней мифологии Иосифа Бродского – так что вряд ли можно пройти мимо такого значимого, кульминационного места. Оно кульминационно – и дало название высшей точке композиции в сочинении – потому что дает нам такой визуальный опыт. Как пахотная борозда дает визуальный опыт поэтической строки – versus (прямо и повернули!)
Мы видим холм. Он в опыте каждого из нас – особенно в опыте отдыха, покидания городского. Этот интерес к негородскому, крестьянскому, ставший столь важным именно в 60ые годы, дает названия, или первоназывания цветам, которых уже так давно не называли в советской поэзии. «Мальва», «мак». Это простые цветы – не розы, не лилии, и даже не садовая сирень – слишком роскошная и декадентская! Второй цветок, кстати сказать, совершенно органично возвращен Аронзоном из советского словаря: мак – цветок рабочего движения, он гордо шествовал в общегосударственном смысловом марше. Но, попав во внутреннюю согласованность с простой «мальвой», он вдруг возвращается в какую-то сферу невинности, до всякого возведения его в смысловую аллегорическую степень. Он виден как красный в зеленом, в неком простом муже-женском расщеплении родов – мальва, мак… в этой тайне перемены названий, когда начинается одинаково, а заканчивается по-разному, и оттого дополняя друг друга.
У меня лично был тоже опыт такого высвобождения «мака». Когда я впервые увидела импрессионисткую картину Клода Моне «Маковое поле». Известно, что при сталинизме в пору разгула соцреализма импрессионисты были почти приговорены к уничтожению. И сотрудники пушкинского музея спасали картины, под разными предлогами – учет, хранение, потерялись – уводя их из сферы видимости власти.
Почему их приговорили? Почему на это было нельзя смотреть советскому человеку? Что в них такого? Когда я впервые увидела «маки» Моне – я знала. Меня посетила страшная тревога. «Маки» – это же кровь борцов за рабочее дело, это цветок памяти, цветок-аллегория. И так они и должны были изображаться – пусть и в реалистической манере, но в особенно символически нагруженной сцене, чьи достоинства, параметры, детали обсуждались на худсоветовах. У Моне маки не значили ничего. Но не просто ничего – они пестрели в дымке зеленой травы, они манили взгляд, на них нельзя было не смотреть, это будило какую-то чувственную привязку, будило ощущение значения, но сквозь эту зелень и мак ты не мог это значение разглядеть, не мог его уловить, взять в фокус. У тебя как будто явно отсутствовал правильно настроенный орган восприятия. Ты переживал собственную оптическую слепоту. Взгляд как будто шарил и не мог увидеть то, что он видит. А то, что он видит, что ему свойственно видеть именно так, подтверждалось тем ощущением, непредвзятости, которое делало «соцреалистические» цветы и травы слишком нарочитыми, слишком постановочными. Как будто начиналось ощущение очков на глазах.
Мы видим по-другому! Мы сами видим по-другому! Некая забытая правда проскальзывала, промелькивала, смущала. И шла она – как ни странно – через импрессионизм, как сквозь оставленную записку из прошлого. Если вспомнить кинематограф того времени, то удивительно важным для него окажутся не только ленты Тарковского, с восстановленными детскими воспоминаниями, где так странно выглядит вода и трава, ветер среди деревьев и занавеска на окне, но и грузинский кинематограф времени, где – пользуясь удаленностью от центра власти – «иное», свойственное каждому человеку видение воспринималось еще более естественным и «простым»…
На самом деле мы видим вот так. Каждый видит вот так.
Вот и снова вернулось подаренное нам Леонидом Аронзоном «каждый», которое, кстати сказать, крайне отличается от слова «все» или «как все» – что было любимым девизом советского человека – быть «как все», видеть «как все».
В этом отношении замечательная история с установлением режима «как все», связанная с советской фотографией и в частности с критикой «Прыгуна» – фотографии Родченко, на которой Прыгун в воду изогнут почти как мост, соединяющий верх и низ, а впереди мы видим «все волоски на его ногах», как неожиданно возмущалась комиссия в журнале «Советское фото». Зачем «советскому человеку» это видеть? Ответ тут мог бы быть странным – эта фактурность ног одного тела, с этой читаемой порослью неожиданно дает эффект «множества», «толпы», человечности. Убирает ощущение парящей статуи, уводит от общего изгиба и создает чувство «земли» летящей – между небом и водой. Странное впечатление, тревожное и яркое, которое еще надо разгадать. Такое же впечатление «иного мира», иной сказанности пространство, создавали и другие фотографии Родченко, который своими ракурсами, сложным сочетанием ритмов единства и множества, кроил и перекраивал устоявшееся пространство, сигнализируя вовне – мы строим Новый мир. Это вдруг неожиданно считалось как некая новая религиозность, словно в том, что увидел Родченко, таилось то опасное зерно уловленного и свойственного каждому кванта радости, который все равно заставит тебя читать мир по-другому. Ракурсы оказались запрещены, верх-низ – как дуга движения – отброшены, крупный план, игра с чертами и лицами, лепка светом – все ушло «в прошлое» и было названо «детской болезнью». Советский человек – это средний план, статика, утвержденная поза. Так он должен видеть – не далеко, не близко, не высоко, не низко. Некое среднее-арифметическое – как все. Удивительный эффект 60-х, в том числе и кинематографа, и поэзии, был в том, что вдруг получили доступ к тому, чтобы видеть, как видит каждый, то есть на что каждый не может не смотреть. И наверное, основа критики советского человека у Ольги Седаковой, Мераба Мамардшвили, Владимира Бибихина – как впрочем и постсоветского – в этой «усредненности» впечатлений, в сделанности чувств, в «мещанской драме» разыгрываемых умилений. И лишь апелляция к опыту детства – еще не поднадзорному, но убранному за ненужностью и непонятностью – еще нечто выводит на поверхность памяти восприятия.
Что же видит каждый?
Слово «каждый» у Аронзона работает в две стороны. Это характеристика того, кто на холме и виден наблюдателю, и то, чем станет наблюдатель, если взойдет на холм. Это и двигательно-кинестетическое (чувство шага) ощущение (то есть близкое) и зрительное переживание (то есть на дистанции). Близь и даль в слове каждый будут меняться местами, просто потому что «каждый» – это и «другой» и «я». Это такое уединенное множество, которое требует и отдельности, и повсеместности. И мы не раз в течение хода стихотворения переживем эти визуальные перевороты: то это мы смотрим на холм, то это мы на холме. То листья дальних дерев – как рыба в сетях – то есть видны с холма, сверху, потому что они блещут на солнце внизу… то мы у песчаной осоки, которая вообще не на холме, а у воды. Но воды на холме нет. Она опять у воды.
Легок – вес, мал – рост. Когда мы таковы – в детстве. Что есть холм – то, что берет на себя, как бы на руки. То берет на себя вверху, то снизу вверх подносит близко.
Среди перечислений «памяти», которые есть в этом стихотворении – нет того, что все фундирует – «память о детстве», о собственном детстве. Но это переживание – быть на руках, быть в чьих-то сильных руках, руках отца или матери – и того, как мир движется, когда ты на чьих-то руках – это действительная кинестетическая память, записанная как одно из блаженств. То есть «память о рае» – как память о детстве.
Об этом нам напомнил уже в наше время другой эстет – эстет от кино – Рустам Хамдамов в своей ленте «Мешок без дна», где сказочница говорит загадочную фразу в ответ на вопрос «Что есть рай?» – «Все мы когда-то были в раю. Но рай этот был в детстве». Для Рустама Хамдамова – этот ответ – точка меланхолии, но сама по себе фраза обратная и выдает странную надежду. Детские воспоминания помнят рай, потому что мы были в состоянии его видеть. Память о детстве – это не инфантилизм взрослых, ребенок крайне серьезен. Но что он видит? Как вычленяет объекты, через что проходят осевые линии прежде неизвестных вещей? Может быть то, как мы в детстве читаем реальность, еще не зная ее принятых контуров – и есть «рай»?
Так у Ольги Седаковой в стихотворении из «Второй тетради» есть образ Алексея Человека Божия. «Возвращение». И там говорится о возвращении в отчий дом – неузнанным, молчащим, таящимся, таким, которого не может захватить реальность в ее правах, а только в ее тайном знакомстве с тобою… И там дается это чувство вещей – самых простых –
А вещи кругом сияют,
как далекие мелкие звезды.
Они далеки, не принадлежат тебе, но узнаваемы, как звезды на родном небе.
Так вот, у Аронзона холм явно «качается» – в походке идущего, и в слове Каждый, которое берет идущего в свое крепкое объятие.
Отождествление детской памяти и памяти о Рае с возможностями вообще нашего восприятия – того как мы видим «холм» – как нечто, что делает легким и у чего есть некое срединное место, то самое место, где кто-то может сесть, быть на руках – а значит даже визуально – посреди несущего Тела – дает и следующие смысловые слои, накладывающиеся друг на друга.
Аронзон действительно работает как лессировкой. Строки повторяются – как в минималистической музыке, где мелодия возникает из повтора одинаковых серий благодаря тому, что сам наш слух, то есть слух каждого, будет слышать различие в повторе. И Аронзон дает эти «отличия» – Взмах, Душа, Молитва, Дитя, Ангел, Бог – все они поднимаются из одного центрального места, при каждом новом приближении к нему этой строки о Холме, внутри которой мы взбираемся к этим словам. И, очевидно, эта кульминационная точка и есть то, что делает наше впечатление от холма живым. Мы ее улавливаем, иначе холм осядет лишь в «предметное».
Стоит заметить о Памяти – именно она становится кульминационной точкой всего произведения, тем самым местом, от которого – как подсказала нам ОА – и надо читать эту форму.
Это память о рае венчает вершину холма!
Вот он – золотой пояс этого стиха!
Это сочетание слов крайне сильно – оно ставится в центральном ударном, кульминационном месте, оно ощущается как нежданная удача, как разгаданный смысл – на котором бы хотелось… застыть! И мы тут застываем, Тут сгущаются все заработанные смыслы – весь пройденный Путником путь.
Формально Аронзон как будто говорит нам, что в нашем Впечатлении – если оно действует на нас – всегда уже действует Память о рае. Более того, мы можем что-либо помнить – и что-либо видеть – именно потому что у нас память о Рае. Мы всегда от нее спускаемся в мир наличных вещей. Это ее «убывание» создает кромку пустотной реальности. А увидеть реальность и означает вспомнить, перепрочесть.
Интересно, что холм творится «венцом» холма, как дом, как храм. И сначала эта высшая точка казалась ВЗМАХОМ, почти анаграммой ХОЛМА. Холм взмахивает, то есть линия действует если ты видишь, что его плотное тело по кромке – почти крыло. Слово «душа» – после ВЗМАХА читается как наполнение. ДУША – опять изнутри раскрывается на А из глубокого У, а вот слово «молИтва» уходит в самое высокое И, на очень сильное место, которое через И резонирует с вершИной, а та через Ш – с дуШой. То есть эти возвышенные и как бы метафорические описания кульминационной точки холма вытекают из обычного и прозаического словоупотребления – из слов «вершина холма». И они «взмахивают» из него же аудиально.
И первая расшифровка всего этого морока –
нас в детей превращает вершина лесного холма
Это – сладкая кода, замечательное удовлетворение, которое дает первое четверостишие. Если бы мы остались здесь – мы остались бы на кромке знакомого. Это дети играют в слова, это детей берут на руки. И место «всех» – напоминает нам о детском опыте, который есть у каждого. И Душа – кстати – это опыт такой радости, такой детской раскачки, где ребенок совершенно полностью совпадает со своей Радостью. Он сам – душа, психея, центр всех чувств.
А вот дальше – переворот. И мы смотрим сверху – на листья-рыбы, из которых мир внизу превращается как бы в реку или озеро – видимое далеко. Так можно увидеть его с верхней точки. Это яркость детских впечатлений о том, как переразлагается знакомый мир сверху – выглядящий как игра, как что-то сияющее и блещущее. И вот тут происходит смена… Новый слой впечатления или зрения… Дети превращаются в одно «дитя» – причем «нагое», то есть особенно нежное, беззащитное… Оно украшает вершину, словно там посажено… И возникает оно после Молитвы и сонма блещущих как уточнение впечатления. Аронзон словно наводит все более точную оптику… Все более точную линзу на структуру впечатления… На холме – в его центральной точке не просто молитва – она обретает форму нежности… Дитя…, которое, как ангел елку, украшает Холм. Перед нами Холм как фигура, держащая этого Ребенка. Рождество…
И то, что детской кровью окрасится песчаная осока, которая не на холме, а видимо там же, где и дальние деревья и «рыба» – это еще одна часть впечатления, причем не от Холма, а от того, что Холм творит с округой. Вспоминая «Холмы» Бродского, мы помним, что двух друзей, так и смотревших на мир с холмов, убивают в их подножии, то есть когда они вступают во «взрослый» мир, в здешнюю реальность. Она окрашена детской кровью… Но чья эта кровь? Очевидно Того, кто был Ребенком… и сошел вниз…
И вдруг снова… словно переключая регистры реальности, кровь превращается в «мальву и мак». Мы снова видим их – нам «показалась» кровь… но теперь – это фигуры памятования. Теперь ты знаешь, что брызнуло на цветы, на ту самую память о рае – которая есть в каждом, – детская кровь. Называя цветы, ты поминаешь убитого. И кому повторять их названия теперь? Себе и любому другому, кто там будет.
Леонид Аронзон как будто говорит нам, что в нашем Впечатлении мыслит себя – если оно действует на нас – всегда действует Память рая. Если возникает некое впечатление, нечто обнаруживает оси видимости – то оно может это делать именно потому, что его выстраивает память о Рае, предшествующая всему. Более того, каждый может что-то помнить – и что-то видеть, лишь потому что в нем есть память о рае. Эта память коллективна, абсолютна, она есть у любого народа, это общая память человечества. Недаром стихотворение и названо «Утро» и именно поэтому оно звучит как Псалом. Это то, что поет каждое Утро на заре.
Псалом Каждому.
И надо еще добавить, что в Память о Рае приходит и изгнание из него, и Рождество, явившееся в ответ на Молитву, и убийство… Распятие. Все это… стоит в структуре восприятия вещей, некий иконический чертеж их… где «детской кровью испачканы» – очень сильное и тянущее вблизь место контрастирующее с далью вершины холма… А стебли песчаных осок – где на слух считается каждый удар, выделяющих каждый стебель в плоском ряду – как крест.
Эта тонкая вещь – эта слоистость зрения, эта икона, разлита над всеми вещами. После чего вдруг начинается вторая часть стихотворения, или мини-поэмы. Что может быть дальше. Поэзия в некотором смысле и есть такой вопрос, а что может быть дальше? После всего? Мы ведь прошли некий уникальный путь. Прикоснулись к той самой вершине жизни… И вдруг полный пересмотр, переключение реальности. Никакого младенца нет… Мы видим Ангела… Это сложное место. Ангел – это условность, некий предел видимого, это невидимое, и навстречу ему вдруг крайне реалистично, словно тоже достигнув полярного Ангелу берега реальности, мальва и мак, выпутываясь из «крови», снова вырастают на наших глазах. То есть то, что они есть, есть потому что возникает слово Ангел, рожденное не из слова Дитя, а из подмененного им Младенца. И Ангел становится ни много ни мало – гарантом нашей видимой, здешней реальности. А что есть «ангел» – неужели мы должны представить себе именно фигуру с крыльями, родившуюся из линии-взмаха холма. Но раз так – то тогда суть Ангела и этого взмаха – весть к нам, в здесь и сейчас!
И дальше отменяется вообще значимость такого гадания – что есть венец холма, кто находится в этом центральном месте, как в плену нашего зрачка, застрявшей там способности видеть видимое… Мы в здесь и сейчас… Мы тут… и что же это за весть? Кроме памяти о всех евангельских событиях разом, лежащих в основе видимости видимого, его прозрачности для нас?
И кода «Утра» вполне удивительна – это хорал всех. Потому что начинается хор! Поют все! Все части перемешиваются друг с другом, проникают друг в друга как пасхальные яйца, вкладываются – душа в тело, знак – в ребенка… И неожиданно снова появляются «дети» – те, которыми были «мы все», и каждый из них – и среди мелкой рыбы в сетях и на разных вершинах – то есть дальний и крупный план объединились. Объединились и слова Каждый и Дитя – «на каждой играет дитя»… То есть вершина это и есть Тот, кто делает нас каждого ребенком. И «все» стали «каждым»… в тот момент, когда встали на колени… то есть «встать на колени» и значит встать на вершине. Встать на колени и значит – встать в рост «ребенка». Отдать себя в руки Холма… Так собираются и стягиваются все визуальные слои впечатления… Чтобы в конце создать один простой и тихий по звучанию звук
… И если «память о рае» всегда пронизана меланхолией утраты… то «память о Боге» – хранит в себе некое вечное настоящее – всех здесь и сейчас… в окаймляющей тишине… Это точка смирения.
Мне кажется, элегия Ольги Седаковой «Земля» словно бы написана в ответ «Утру» Леонида Аронзона.
...Может быть, умереть – это встать наконец на колени?
И я, которая буду землей, на землю гляжу в изумленье.
Чистота чище первой чистоты! из области ожесточенья
я спрашиваю о причине заступничества и прощенья,
я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада
тысячелетьями глотать обиды и раздавать награды?
Почему они тебе милы, или чем угодили?
– Потому что я есть, – она отвечает. –
Потому что все мы были.
Земля и есть этот холм – наш холм, где все и происходит. Но кто отвечает в конце? Только ли она… или она, как вестница Того, кто все создал, Отца всех детей, Чья неразгаданная воля, Чей замысел, лежит на дне самих кристаллов наших глаз – их впечатлений и их слез.
как и легок, и мал он, венчая вершину лесного холма!
Чей там взмах, чья душа или это молитва сама?
Нас в детей обращает вершина лесного холма!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
и вершину холма украшает нагое дитя!
Если это дитя, кто вознес его так высоко?
Детской кровью испачканы стебли песчаных осок.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о рае венчает вершину холма!
Не младенец, но ангел венчает вершину холма,
то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!
Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник,
нас вершина холма заставляет упасть на колени,
на вершине холма опускаешься вдруг на колени!
Не дитя там – душа, заключенная в детскую плоть,
не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
посмотри на вершины: на каждой играет дитя!
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о Боге венчает вершину холма!
1966
После замечательного эссе Ольги Седаковой «Леонид Аронзон – поэт кульминации» мне всерьез нечего было бы добавить к сказанному. Особенно пронзает то место, где, рассуждая о том, что кульминация классической формы в поэзии проходит по «золотому сечению». Если это восьмистишие – то это, например, 5-6 строфы, с которых и надо читать. Она отмечает как много сказано раз слово «вершина», и что «холм» – culmen – и есть имя «кульминации». Аронзон – «пленник холмов», то есть тот, кто настолько невыразимо счастлив там, в иной, второй, реальности, что хода назад уже нет. Высшая точка – как центр вращения – является же и местом пленения говорящего. Причем таким пленением может быть и куст, и любая вещь, которая вдруг являет себя как храм реальности.
Это настолько полный анализ, что мне не хотелось и не моглось бы к нему чего-то добавить. Тем более, что само стихотворение я впервые увидела в так и не изданной хрестоматии русской поэзии, которую Ольга Седакова собрала по 60-80 гг. ХХ века. И там «Утро» Аронзона находится в числе лучших стихов, написанных на русском языке. Жемчужина.
Я бы, пожалуй, и не хотела ничего сказать больше, если бы не чувствовала, что меня все время еще что-то цепляет, что-то еще есть и оставлено как подарок в месте кульминации. И это, пожалуй, самое начало – слово «каждый».
Поэзия – особенно зрелая силлабо-тоника – состоит из сильных и слабых мест. Она – буквально то, что дает прозвучать любому слову на своем месте так, что ты как будто впервые его разглядываешь и ему удивляешься, как вскрываемому типу смыслового движения.
Ольга Александровна сравниват с Аронзоном его «брата» во времени Пауля Целана, тоже своеобразного поэта «кульминации», высшей точки. Так вот, у Целана на этом месте ведущее слово «Никто».
Так, как звучит слово «Каждый» у Аронзона, на низком ударе, в неожиданной слышимости Низкого А, посреди глухого заднего «К», стягивающего переднего «Ж», и близкого небному и жестко утверждающему «Д» – «Каждый» – похож на отталкивающийся шаг. На удар ступни, в который действительно может встать «Каждый».
Удивительность настоящего произведения всегда в том, что оно буквально исполняет то, что говорит. И это исполнительское искусство поэзии заключено всегда внутри ее же рассказов и повестей. Можно сказать, что поэзия танцует поверх самой себя. Делает – согласно своему наименованию (от греч. Poeo – делать) – то, что говорит. Только тогда она и звучит и звук реален – мы это чувствуем. Как и чувствуем то, что в первом же слове у Аронзона наша ступня попадает в его первое слово, в его след.
«Каждый» – и ты, и я.
Потом – дальше в стихе – к нам будут обращаться, обучать.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Как будто Аронзон совершенно уверен в том, что ровно это мы и будем делать – собирать букет. Ровно это и делает каждый из нас. Он еще к тому же уверен, что мы любим холмы. Что взгляд человека не может на них не смотреть.
Когда-то побывав на семинаре Федерико Феллини, советские режиссеры Наумов и Алов с удивлением передавали такой опыт. Феллини поставил перед ними одну из своих любимых киногероинь – огромную женщину-табачницу из Амаркорда – ее фигура – крутая, объемная, плотная, обтянутая одеждой – завораживала и пугала глаз. И он объяснял, что «кино» – это прежде всего фиксация того, на что человек любит смотреть, не может не смотреть. Он попросил актрису надеть кобуру на бедра и сказал: «теперь двигайся», – и оторваться от такого зрелища было нельзя. Вопрос, конечно, остается – а на что же мы смотрим, когда видим это. И появление этой странной земной богини в разных местах феллиневского мира, постепенно идущего к упадку, могло бы нам рассказать кое-что о сути такого зрелища.
Леонид Аронзон тоже выделяет нечто, что мы можем представить себе, как будто в каталоге любимых образов. «Холм» – визуально это место, где земля становится круглой, она закругляется и словно бы показывает свое подлинное устройство, свою сферичность. Холм присутствует и во внутренней мифологии Иосифа Бродского – так что вряд ли можно пройти мимо такого значимого, кульминационного места. Оно кульминационно – и дало название высшей точке композиции в сочинении – потому что дает нам такой визуальный опыт. Как пахотная борозда дает визуальный опыт поэтической строки – versus (прямо и повернули!)
Мы видим холм. Он в опыте каждого из нас – особенно в опыте отдыха, покидания городского. Этот интерес к негородскому, крестьянскому, ставший столь важным именно в 60ые годы, дает названия, или первоназывания цветам, которых уже так давно не называли в советской поэзии. «Мальва», «мак». Это простые цветы – не розы, не лилии, и даже не садовая сирень – слишком роскошная и декадентская! Второй цветок, кстати сказать, совершенно органично возвращен Аронзоном из советского словаря: мак – цветок рабочего движения, он гордо шествовал в общегосударственном смысловом марше. Но, попав во внутреннюю согласованность с простой «мальвой», он вдруг возвращается в какую-то сферу невинности, до всякого возведения его в смысловую аллегорическую степень. Он виден как красный в зеленом, в неком простом муже-женском расщеплении родов – мальва, мак… в этой тайне перемены названий, когда начинается одинаково, а заканчивается по-разному, и оттого дополняя друг друга.
У меня лично был тоже опыт такого высвобождения «мака». Когда я впервые увидела импрессионисткую картину Клода Моне «Маковое поле». Известно, что при сталинизме в пору разгула соцреализма импрессионисты были почти приговорены к уничтожению. И сотрудники пушкинского музея спасали картины, под разными предлогами – учет, хранение, потерялись – уводя их из сферы видимости власти.
Почему их приговорили? Почему на это было нельзя смотреть советскому человеку? Что в них такого? Когда я впервые увидела «маки» Моне – я знала. Меня посетила страшная тревога. «Маки» – это же кровь борцов за рабочее дело, это цветок памяти, цветок-аллегория. И так они и должны были изображаться – пусть и в реалистической манере, но в особенно символически нагруженной сцене, чьи достоинства, параметры, детали обсуждались на худсоветовах. У Моне маки не значили ничего. Но не просто ничего – они пестрели в дымке зеленой травы, они манили взгляд, на них нельзя было не смотреть, это будило какую-то чувственную привязку, будило ощущение значения, но сквозь эту зелень и мак ты не мог это значение разглядеть, не мог его уловить, взять в фокус. У тебя как будто явно отсутствовал правильно настроенный орган восприятия. Ты переживал собственную оптическую слепоту. Взгляд как будто шарил и не мог увидеть то, что он видит. А то, что он видит, что ему свойственно видеть именно так, подтверждалось тем ощущением, непредвзятости, которое делало «соцреалистические» цветы и травы слишком нарочитыми, слишком постановочными. Как будто начиналось ощущение очков на глазах.
Мы видим по-другому! Мы сами видим по-другому! Некая забытая правда проскальзывала, промелькивала, смущала. И шла она – как ни странно – через импрессионизм, как сквозь оставленную записку из прошлого. Если вспомнить кинематограф того времени, то удивительно важным для него окажутся не только ленты Тарковского, с восстановленными детскими воспоминаниями, где так странно выглядит вода и трава, ветер среди деревьев и занавеска на окне, но и грузинский кинематограф времени, где – пользуясь удаленностью от центра власти – «иное», свойственное каждому человеку видение воспринималось еще более естественным и «простым»…
На самом деле мы видим вот так. Каждый видит вот так.
Вот и снова вернулось подаренное нам Леонидом Аронзоном «каждый», которое, кстати сказать, крайне отличается от слова «все» или «как все» – что было любимым девизом советского человека – быть «как все», видеть «как все».
В этом отношении замечательная история с установлением режима «как все», связанная с советской фотографией и в частности с критикой «Прыгуна» – фотографии Родченко, на которой Прыгун в воду изогнут почти как мост, соединяющий верх и низ, а впереди мы видим «все волоски на его ногах», как неожиданно возмущалась комиссия в журнале «Советское фото». Зачем «советскому человеку» это видеть? Ответ тут мог бы быть странным – эта фактурность ног одного тела, с этой читаемой порослью неожиданно дает эффект «множества», «толпы», человечности. Убирает ощущение парящей статуи, уводит от общего изгиба и создает чувство «земли» летящей – между небом и водой. Странное впечатление, тревожное и яркое, которое еще надо разгадать. Такое же впечатление «иного мира», иной сказанности пространство, создавали и другие фотографии Родченко, который своими ракурсами, сложным сочетанием ритмов единства и множества, кроил и перекраивал устоявшееся пространство, сигнализируя вовне – мы строим Новый мир. Это вдруг неожиданно считалось как некая новая религиозность, словно в том, что увидел Родченко, таилось то опасное зерно уловленного и свойственного каждому кванта радости, который все равно заставит тебя читать мир по-другому. Ракурсы оказались запрещены, верх-низ – как дуга движения – отброшены, крупный план, игра с чертами и лицами, лепка светом – все ушло «в прошлое» и было названо «детской болезнью». Советский человек – это средний план, статика, утвержденная поза. Так он должен видеть – не далеко, не близко, не высоко, не низко. Некое среднее-арифметическое – как все. Удивительный эффект 60-х, в том числе и кинематографа, и поэзии, был в том, что вдруг получили доступ к тому, чтобы видеть, как видит каждый, то есть на что каждый не может не смотреть. И наверное, основа критики советского человека у Ольги Седаковой, Мераба Мамардшвили, Владимира Бибихина – как впрочем и постсоветского – в этой «усредненности» впечатлений, в сделанности чувств, в «мещанской драме» разыгрываемых умилений. И лишь апелляция к опыту детства – еще не поднадзорному, но убранному за ненужностью и непонятностью – еще нечто выводит на поверхность памяти восприятия.
Что же видит каждый?
Слово «каждый» у Аронзона работает в две стороны. Это характеристика того, кто на холме и виден наблюдателю, и то, чем станет наблюдатель, если взойдет на холм. Это и двигательно-кинестетическое (чувство шага) ощущение (то есть близкое) и зрительное переживание (то есть на дистанции). Близь и даль в слове каждый будут меняться местами, просто потому что «каждый» – это и «другой» и «я». Это такое уединенное множество, которое требует и отдельности, и повсеместности. И мы не раз в течение хода стихотворения переживем эти визуальные перевороты: то это мы смотрим на холм, то это мы на холме. То листья дальних дерев – как рыба в сетях – то есть видны с холма, сверху, потому что они блещут на солнце внизу… то мы у песчаной осоки, которая вообще не на холме, а у воды. Но воды на холме нет. Она опять у воды.
Легок – вес, мал – рост. Когда мы таковы – в детстве. Что есть холм – то, что берет на себя, как бы на руки. То берет на себя вверху, то снизу вверх подносит близко.
Среди перечислений «памяти», которые есть в этом стихотворении – нет того, что все фундирует – «память о детстве», о собственном детстве. Но это переживание – быть на руках, быть в чьих-то сильных руках, руках отца или матери – и того, как мир движется, когда ты на чьих-то руках – это действительная кинестетическая память, записанная как одно из блаженств. То есть «память о рае» – как память о детстве.
Об этом нам напомнил уже в наше время другой эстет – эстет от кино – Рустам Хамдамов в своей ленте «Мешок без дна», где сказочница говорит загадочную фразу в ответ на вопрос «Что есть рай?» – «Все мы когда-то были в раю. Но рай этот был в детстве». Для Рустама Хамдамова – этот ответ – точка меланхолии, но сама по себе фраза обратная и выдает странную надежду. Детские воспоминания помнят рай, потому что мы были в состоянии его видеть. Память о детстве – это не инфантилизм взрослых, ребенок крайне серьезен. Но что он видит? Как вычленяет объекты, через что проходят осевые линии прежде неизвестных вещей? Может быть то, как мы в детстве читаем реальность, еще не зная ее принятых контуров – и есть «рай»?
Так у Ольги Седаковой в стихотворении из «Второй тетради» есть образ Алексея Человека Божия. «Возвращение». И там говорится о возвращении в отчий дом – неузнанным, молчащим, таящимся, таким, которого не может захватить реальность в ее правах, а только в ее тайном знакомстве с тобою… И там дается это чувство вещей – самых простых –
А вещи кругом сияют,
как далекие мелкие звезды.
Они далеки, не принадлежат тебе, но узнаваемы, как звезды на родном небе.
Так вот, у Аронзона холм явно «качается» – в походке идущего, и в слове Каждый, которое берет идущего в свое крепкое объятие.
Отождествление детской памяти и памяти о Рае с возможностями вообще нашего восприятия – того как мы видим «холм» – как нечто, что делает легким и у чего есть некое срединное место, то самое место, где кто-то может сесть, быть на руках – а значит даже визуально – посреди несущего Тела – дает и следующие смысловые слои, накладывающиеся друг на друга.
Аронзон действительно работает как лессировкой. Строки повторяются – как в минималистической музыке, где мелодия возникает из повтора одинаковых серий благодаря тому, что сам наш слух, то есть слух каждого, будет слышать различие в повторе. И Аронзон дает эти «отличия» – Взмах, Душа, Молитва, Дитя, Ангел, Бог – все они поднимаются из одного центрального места, при каждом новом приближении к нему этой строки о Холме, внутри которой мы взбираемся к этим словам. И, очевидно, эта кульминационная точка и есть то, что делает наше впечатление от холма живым. Мы ее улавливаем, иначе холм осядет лишь в «предметное».
Стоит заметить о Памяти – именно она становится кульминационной точкой всего произведения, тем самым местом, от которого – как подсказала нам ОА – и надо читать эту форму.
Это память о рае венчает вершину холма!
Вот он – золотой пояс этого стиха!
Это сочетание слов крайне сильно – оно ставится в центральном ударном, кульминационном месте, оно ощущается как нежданная удача, как разгаданный смысл – на котором бы хотелось… застыть! И мы тут застываем, Тут сгущаются все заработанные смыслы – весь пройденный Путником путь.
Формально Аронзон как будто говорит нам, что в нашем Впечатлении – если оно действует на нас – всегда уже действует Память о рае. Более того, мы можем что-либо помнить – и что-либо видеть – именно потому что у нас память о Рае. Мы всегда от нее спускаемся в мир наличных вещей. Это ее «убывание» создает кромку пустотной реальности. А увидеть реальность и означает вспомнить, перепрочесть.
Интересно, что холм творится «венцом» холма, как дом, как храм. И сначала эта высшая точка казалась ВЗМАХОМ, почти анаграммой ХОЛМА. Холм взмахивает, то есть линия действует если ты видишь, что его плотное тело по кромке – почти крыло. Слово «душа» – после ВЗМАХА читается как наполнение. ДУША – опять изнутри раскрывается на А из глубокого У, а вот слово «молИтва» уходит в самое высокое И, на очень сильное место, которое через И резонирует с вершИной, а та через Ш – с дуШой. То есть эти возвышенные и как бы метафорические описания кульминационной точки холма вытекают из обычного и прозаического словоупотребления – из слов «вершина холма». И они «взмахивают» из него же аудиально.
И первая расшифровка всего этого морока –
нас в детей превращает вершина лесного холма
Это – сладкая кода, замечательное удовлетворение, которое дает первое четверостишие. Если бы мы остались здесь – мы остались бы на кромке знакомого. Это дети играют в слова, это детей берут на руки. И место «всех» – напоминает нам о детском опыте, который есть у каждого. И Душа – кстати – это опыт такой радости, такой детской раскачки, где ребенок совершенно полностью совпадает со своей Радостью. Он сам – душа, психея, центр всех чувств.
А вот дальше – переворот. И мы смотрим сверху – на листья-рыбы, из которых мир внизу превращается как бы в реку или озеро – видимое далеко. Так можно увидеть его с верхней точки. Это яркость детских впечатлений о том, как переразлагается знакомый мир сверху – выглядящий как игра, как что-то сияющее и блещущее. И вот тут происходит смена… Новый слой впечатления или зрения… Дети превращаются в одно «дитя» – причем «нагое», то есть особенно нежное, беззащитное… Оно украшает вершину, словно там посажено… И возникает оно после Молитвы и сонма блещущих как уточнение впечатления. Аронзон словно наводит все более точную оптику… Все более точную линзу на структуру впечатления… На холме – в его центральной точке не просто молитва – она обретает форму нежности… Дитя…, которое, как ангел елку, украшает Холм. Перед нами Холм как фигура, держащая этого Ребенка. Рождество…
И то, что детской кровью окрасится песчаная осока, которая не на холме, а видимо там же, где и дальние деревья и «рыба» – это еще одна часть впечатления, причем не от Холма, а от того, что Холм творит с округой. Вспоминая «Холмы» Бродского, мы помним, что двух друзей, так и смотревших на мир с холмов, убивают в их подножии, то есть когда они вступают во «взрослый» мир, в здешнюю реальность. Она окрашена детской кровью… Но чья эта кровь? Очевидно Того, кто был Ребенком… и сошел вниз…
И вдруг снова… словно переключая регистры реальности, кровь превращается в «мальву и мак». Мы снова видим их – нам «показалась» кровь… но теперь – это фигуры памятования. Теперь ты знаешь, что брызнуло на цветы, на ту самую память о рае – которая есть в каждом, – детская кровь. Называя цветы, ты поминаешь убитого. И кому повторять их названия теперь? Себе и любому другому, кто там будет.
Леонид Аронзон как будто говорит нам, что в нашем Впечатлении мыслит себя – если оно действует на нас – всегда действует Память рая. Если возникает некое впечатление, нечто обнаруживает оси видимости – то оно может это делать именно потому, что его выстраивает память о Рае, предшествующая всему. Более того, каждый может что-то помнить – и что-то видеть, лишь потому что в нем есть память о рае. Эта память коллективна, абсолютна, она есть у любого народа, это общая память человечества. Недаром стихотворение и названо «Утро» и именно поэтому оно звучит как Псалом. Это то, что поет каждое Утро на заре.
Псалом Каждому.
И надо еще добавить, что в Память о Рае приходит и изгнание из него, и Рождество, явившееся в ответ на Молитву, и убийство… Распятие. Все это… стоит в структуре восприятия вещей, некий иконический чертеж их… где «детской кровью испачканы» – очень сильное и тянущее вблизь место контрастирующее с далью вершины холма… А стебли песчаных осок – где на слух считается каждый удар, выделяющих каждый стебель в плоском ряду – как крест.
Эта тонкая вещь – эта слоистость зрения, эта икона, разлита над всеми вещами. После чего вдруг начинается вторая часть стихотворения, или мини-поэмы. Что может быть дальше. Поэзия в некотором смысле и есть такой вопрос, а что может быть дальше? После всего? Мы ведь прошли некий уникальный путь. Прикоснулись к той самой вершине жизни… И вдруг полный пересмотр, переключение реальности. Никакого младенца нет… Мы видим Ангела… Это сложное место. Ангел – это условность, некий предел видимого, это невидимое, и навстречу ему вдруг крайне реалистично, словно тоже достигнув полярного Ангелу берега реальности, мальва и мак, выпутываясь из «крови», снова вырастают на наших глазах. То есть то, что они есть, есть потому что возникает слово Ангел, рожденное не из слова Дитя, а из подмененного им Младенца. И Ангел становится ни много ни мало – гарантом нашей видимой, здешней реальности. А что есть «ангел» – неужели мы должны представить себе именно фигуру с крыльями, родившуюся из линии-взмаха холма. Но раз так – то тогда суть Ангела и этого взмаха – весть к нам, в здесь и сейчас!
И дальше отменяется вообще значимость такого гадания – что есть венец холма, кто находится в этом центральном месте, как в плену нашего зрачка, застрявшей там способности видеть видимое… Мы в здесь и сейчас… Мы тут… и что же это за весть? Кроме памяти о всех евангельских событиях разом, лежащих в основе видимости видимого, его прозрачности для нас?
И кода «Утра» вполне удивительна – это хорал всех. Потому что начинается хор! Поют все! Все части перемешиваются друг с другом, проникают друг в друга как пасхальные яйца, вкладываются – душа в тело, знак – в ребенка… И неожиданно снова появляются «дети» – те, которыми были «мы все», и каждый из них – и среди мелкой рыбы в сетях и на разных вершинах – то есть дальний и крупный план объединились. Объединились и слова Каждый и Дитя – «на каждой играет дитя»… То есть вершина это и есть Тот, кто делает нас каждого ребенком. И «все» стали «каждым»… в тот момент, когда встали на колени… то есть «встать на колени» и значит встать на вершине. Встать на колени и значит – встать в рост «ребенка». Отдать себя в руки Холма… Так собираются и стягиваются все визуальные слои впечатления… Чтобы в конце создать один простой и тихий по звучанию звук
… И если «память о рае» всегда пронизана меланхолией утраты… то «память о Боге» – хранит в себе некое вечное настоящее – всех здесь и сейчас… в окаймляющей тишине… Это точка смирения.
Мне кажется, элегия Ольги Седаковой «Земля» словно бы написана в ответ «Утру» Леонида Аронзона.
...Может быть, умереть – это встать наконец на колени?
И я, которая буду землей, на землю гляжу в изумленье.
Чистота чище первой чистоты! из области ожесточенья
я спрашиваю о причине заступничества и прощенья,
я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада
тысячелетьями глотать обиды и раздавать награды?
Почему они тебе милы, или чем угодили?
– Потому что я есть, – она отвечает. –
Потому что все мы были.
Земля и есть этот холм – наш холм, где все и происходит. Но кто отвечает в конце? Только ли она… или она, как вестница Того, кто все создал, Отца всех детей, Чья неразгаданная воля, Чей замысел, лежит на дне самих кристаллов наших глаз – их впечатлений и их слез.