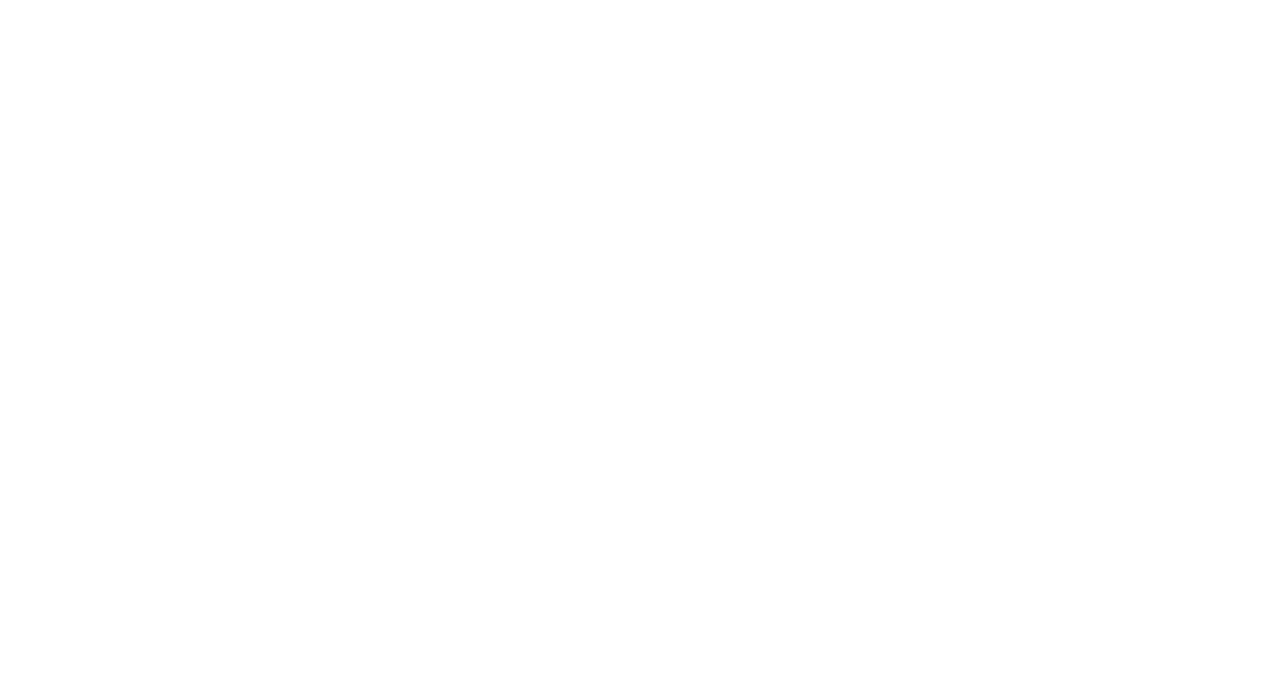переводы
Мальчик выходит утром
с ружьем
Роберт Хасс
Два года назад в Чэнду после прогулки по музею современного искусства мы сидели в кафе с моим новым знакомым Шэнь Чжи (沈至). Мой, если так можно выразиться, «младший ровесник», выпускник Оксфорда – он был полон решимости отправиться в США на программу литературного мастерства. Сегодня его мечта уже стала реальностью, а тогда я спросил его, каких авторов из англофонной традиции он бы назвал в качестве своих ориентиров. Не задумываясь, Шэнь Чжи продекламировал «Медитацию в Лагунитас» Роберта Хасса.
Роберт Хасс (1941-) – поэт, чей список регалий начал расти с выхода самого первого сборника «Полевой гид». Как заметил во время недавнего онлайн-мероприятия его собеседник: «Проще назвать литературную награду, которую Боб не получал». Пожалуй, самым репрезентативным примером здесь можно считать книгу «Время и материалы», принесшую автору одновременно Национальную (2007) и Пулитцеровскую премии (2008). В русскоязычном же пространстве его переводы уже выходили, как минимум, в «Иностранной литературе» и «Новой Юности» – тогда он только отбыл свой срок в статусе Поэта-лауреата США. Неутомимый эко-активист, признанный переводчик, чуткий преподаватель – все это разные грани одной творческой личности.
В предлагаемую подборку вошли преимущественно «природные» тексты из сборника «Яблони в Олеме». В них дар наблюдения выражен с наибольшей наглядностью: обезоруживающая ясность письма как залог взаимного сострадания. Простота и прямота, которые не утомляют. Озарения, позаимствованные у самой жизни с ее разрешения.
И напоследок. В одном из комментариев к «Медитации в Лагунитас» сказано: это текст, который может спасти Вас. На то, чтобы закончить его у поэта ушло четыре года.
Роберт Хасс (1941-) – поэт, чей список регалий начал расти с выхода самого первого сборника «Полевой гид». Как заметил во время недавнего онлайн-мероприятия его собеседник: «Проще назвать литературную награду, которую Боб не получал». Пожалуй, самым репрезентативным примером здесь можно считать книгу «Время и материалы», принесшую автору одновременно Национальную (2007) и Пулитцеровскую премии (2008). В русскоязычном же пространстве его переводы уже выходили, как минимум, в «Иностранной литературе» и «Новой Юности» – тогда он только отбыл свой срок в статусе Поэта-лауреата США. Неутомимый эко-активист, признанный переводчик, чуткий преподаватель – все это разные грани одной творческой личности.
В предлагаемую подборку вошли преимущественно «природные» тексты из сборника «Яблони в Олеме». В них дар наблюдения выражен с наибольшей наглядностью: обезоруживающая ясность письма как залог взаимного сострадания. Простота и прямота, которые не утомляют. Озарения, позаимствованные у самой жизни с ее разрешения.
И напоследок. В одном из комментариев к «Медитации в Лагунитас» сказано: это текст, который может спасти Вас. На то, чтобы закончить его у поэта ушло четыре года.
Алексеев И. А. 10.12.2024
1
Are you there? It’s summer. Are you smeared with the juice of cherries?
The light this morning is touching everything,
the grasses by the pond,
and the wind-chivvied water,
and the aspens on the bank, and the one white fir on its sunward side,
and the blue house down the road
and its white banisters which are glowing on top
and shadowy on the underside,
which intensifies the luster of the surfaces that face the sun
as it does to the leaves of the aspen.
Are you there? Maybe it would be best
to be the shadow side of a pine needle
on a midsummer morning
(to be in imagination and for a while
on a midsummer morning
the shadow side of a pine needle).
The sun has concentrated to a glowing point
in the unlit bulb of the porchlight on the porch
of the blue house down the road.
It almost hurts to look at it.
Are you there? Are you soaked in dreams still?
The sky is inventing a Web site called newest azure.
There are four kinds of birdsong outside
and a methodical early morning saw.
No, not a saw. It’s a boy on a scooter and the sun
on his black helmet is concentrated to a point of glowing light.
He isn’t death come to get us
And he isn’t truth arriving in a black T-shirt
chevroned up the arms in tongues of flame.
Are you there? For some reason I’m imagining
the small hairs on your neck, even though I know
you are dread and the muse
and my mortal fate and a secret.
It’s a boy on a scooter on a summer morning.
Did I say the light was touching everything?
***
Там ли ты? Это лето. Перепачкан ли ты соком вишен?
Этим утром свет касался всего:
травы у пруда,
и принужденной ветром воды,
и осин вдоль берега, и одной пихты на его солнечной стороне,
и синего дома вниз по дороге,
и его белых перил, бликующих сверху,
а снизу – лежащих в тени,
что только подчеркивало блеск плоскостей, подставленных солнцу –
так, как это бывает с листвой осины.
Там ли ты? Вероятно, было бы лучше
быть теневой стороною хвоинки
утром посреди лета
(быть в мыслях и на мгновение
утром посреди лета
теневой стороною хвоинки).
Солнце сосредоточилось в светящейся точке
незажженной лампочки на крыльце
синего дома вниз по дороге.
Смотреть на нее – просто невыносимо.
Там ли ты? Ты все еще погружен во сны?
Небо изобретает Вебсайт, названный новейшая синева.
Всего четыре вида птичьих напевов снаружи
и методичность ранней пилы.
Нет, не пилы. Это парнишка на скутере, и
солнце сосредоточилось в светящейся точке на его черном шлеме.
Он вовсе не смерть, идущая к нам,
и отнюдь не спешащая истина в черной футболке
с узором из языков пламени на рукавах.
Там ли ты? Почему-то я представляю
волоски на твоей шее, хотя мне известно
что ты – отвращение, муза,
моя судьба и секрет.
Этот парнишка на самокате в летнее утро.
Разве я сказал, что свет касался всего?
2
Late afternoons in June the fog rides in
across the ridge of pines, ghosting them,
and settling on the bay to give a muted gray
luster to the last hours of light and take back
what we didn’t know at midday we’d experience
as lack: the blue of summer and the dry spiced scent
of the summer woods. It’s as if some cold salt god
had wandered inland for a nap. You still see
herons fishing in the shallows, a kingfisher or an osprey
emerges for a moment out of the high, drifting mist,
then vanishes again. And the soft, light green leaves
of the thimbleberry and the ridged coffeeberry leaves
and the needles of the redwoods and pines look more sprightly
in the cool gray air with the long dusk coming on,
since fog is their natural element. I had it in mind
that this description of the weather would be a way
to say things come and go, a way of subsuming
the rhythms of arrival and departure to a sense
of how brief the time is on a summer afternoon
when the sun is warm on your neck and the world
might as well be a dog sleeping on a porch, or a child
for whom an afternoon is endless, endless. Time:
thick honey, and no one saying good-bye.
***
На июньские сумерки наплывает туман,
перекинувшись через гребень из сосен, высвечивая их
и оседая возле залива, чтобы сообщить немой серый
отсвет последним часам и забрать
то, что в полдень – в тайне от нас самих – переживалось нами
как недостаток: синий цвет лета и сухой пряный запах
летних лесов. Все это было так, словно холодный соляной бог
забрел на сушу, чтобы вздремнуть. Ты по-прежнему различаешь
цапель, охотящихся на мелководье, зимородок или скопа
возникает на миг в вышине, сквозит дымку
и исчезает опять. И мягкие светло-зеленые листья
мелкоцветной малины и холмистые кроны калифорнийского жостера,
а также хвоя секвой и сосен – все они выглядят чуть живей
в прохладном сереющем воздухе подступающего заката,
поскольку туман – их естественный спутник. Я полагал,
что эта пейзажная зарисовка даст мне сказать,
как все пребывает и вновь сходит на нет, или позволит вдруг подчинить
ритмы встреч и разлук чувству краткости
и скоротечности времени летом после полудня,
когда от солнца шее тепло, и сам мир
с тем же успехом мог сниться псу, прикорнувшему на крыльце, или ребенку,
для которого полдень поистине вечен, вечен. Время:
вязкий мед и никто не скажет – счастливо.
3
SNOWY EGRET
A boy walks out in the morning with a gun.
Bright air, the smell of grass and leaves
and reeds around the pond October smells.
A scent of apples from the orchard in the air.
A smell of ducks. Two cinnamon teal,
he thinks they are teal, the ones he’d seen
the night before as the pond darkened
and he’d thought the thought that the dark
was coming earlier. He is of an age
when the thought of winter is a sexual thought,
the having thoughts of one’s own is sexual,
the two ducks muttering and gliding
toward the deeper reeds away from him,
as if distance were a natural courtesy,
is sexual, which is to say, a mystery, an ache
inside his belly and his chest that rhymes
somehow with the largeness of the night.
The stars conjuring themselves from nothing
but the dark, as if to say it’s not as if
they weren’t all along just where they were,
ached in the suddenly swifter darkening
and glittering and cold. He’s of an age
when the thought of thinking is, at night,
a sexual thought. This morning in the crystal
of the air, dew, and the sunlight that the dew
has caught on the grass blades sparkling at his feet,
he stalks the pond. Three larger ducks,
mallards probably, burst from the reeds
and wheel and fly off south. Three redwings,
gone to their winter muteness, fly three ways
across the pond to settle on three cattails
opposite or crossways from each other,
perch and shiver into place and look around.
That’s when he sees the snowy egret
in the rushes, pure white and stone still
and standing on one leg in that immobile,
perfect, almost princely way. He ’d seen it
often in the summer, often in the morning
and sometimes at dusk, hunting the reeds
under the sumac shadows on the far bank.
He’d watched the slow, wide fanning
of its wings, taking off and landing,
the almost inconceivably slow way
it raised one leg and then another
when it was stalking, the quick cocking
of its head at sudden movement in the water,
and the swift, darting sureness when it stabbed
the water for a stickleback or frog. once
he’d seen it, head up, swallowing a gopher,
its throat bulging, a bit of tail and a trickle
of blood just visible below the black beak.
Now it was still and white in the brightness
of the morning in the reeds. He liked
to practice stalking, and he raised the gun
to his shoulder and crouched in the wet grasses
and drew his bead just playfully at first.
Снежная цапля
Мальчик выходит утром с ружьем.
Светлый воздух, запах травы и листьев,
и тростник у пруда обдает октябрем.
Аромат яблок из сада рассеян в воздухе.
Пахнет утками. Пара коричневатых чирков –
чирков, как он думает – тех, что он видел
минувшей ночью, когда пруд почернел,
и ему на ум пришла мысль: может быть, тьма
надвинется раньше. Он в том самом возрасте, когда мысль
о зиме – есть мысль о влечении.
Возбуждает сам факт наличия собственных мыслей,
две уточки переговариваются и скользят
дальше вглубь, в камыши, что поодаль, как если бы
такая дистанция была продиктована естественным тактом,
влечение, в сущности, означает загадку, боль
в его животе и груди, неведомым образом
зарифмованную с огромностью ночи.
Созвездия, вызвавшие себя
из темноты и пустоты, словно они
не все время там, где они есть,
томящиеся в стремительно наступающей тьме,
блеске и холоде. Он в том возрасте,
когда ночью мысль о мышлении
есть мысль возбуждающая. Этим утром в кристалле
воздуха, росе и лучах, ею собранных,
а затем – преломленных на острых травинках –
он разведывает пруд. Три утки побольше –
кряквы, должно быть – вырываются из тростника,
разгоняются и поднимаются ввысь в сторону юга. Три белобровика
предались своей зимней немоте, трижды перепорхнув
через пруд и примостившись на трех стеблях рогоза
напротив или наискосок друг от друга,
вжимаясь и слегка подрагивая, осматриваясь по сторонам.
И это был тот самый миг, когда он увидел снежную цаплю
посреди ситника, ослепительно белую и неподвижную как изваяние,
балансирующую на одной ноге в сей недвижимой,
непогрешимой, почти царственной позе. Он нередко
встречал ее летом, чаще всего поутру
и порой на закате, охотящейся в тростнике
в тенях сумаха на том берегу.
Он наблюдал, как неторопливо и широко разворачивались
веера ее крыльев, как она поднималась в воздух и приземлялась,
как с непостижимой медлительностью
она переступала с одной ноги на другую
пока выслеживала добычу, как молниеносно вздрагивала
ее голова в ответ на движенье в воде,
и столь же резкую уверенную устремленность, с которой она
пронзала водную гладь за корюшкой или лягушкой. Как-то раз
он видел, как она, задрав голову, заглатывала суслика,
ее горло булькало, кусочек хвоста и струйка крови
были едва различимы внизу черного клюва.
Теперь же она стояла недвижной и белой
в утренней ясности – там, в тростнике. Ему было в радость
вот так разведывать, и тут он поднял ружье
до плеча и принялся красться по мокрой траве,
наводя мушку – сначала лишь понарошку.
4
MEDITATION AT LAGUNITAS
All the new thinking is about loss.
In this it resembles all the old thinking.
The idea, for example, that each particular erases
the luminous clarity of a general idea. That the clownfaced
woodpecker probing the dead sculpted trunk
of that black birch is, by his presence,
some tragic falling off from a first world
of undivided light. or the other notion that,
because there is in this world no one thing
to which the bramble of blackberry corresponds,
a word is elegy to what it signifies.
We talked about it late last night and in the voice
of my friend, there was a thin wire of grief, a tone
almost querulous. After a while I understood that,
talking this way, everything dissolves: justice,
pine, hair, woman, you and I. There was a woman
I made love to and I remembered how, holding
her small shoulders in my hands sometimes,
I felt a violent wonder at her presence
like a thirst for salt, for my childhood river
with its island willows, silly music from the pleasure boat,
muddy places where we caught the little orange-silver fish
called pumpkinseed. It hardly had to with her.
Longing, we say, because desire is full
of endless distances. I must have been the same to her.
But I remember so much, the way her hands dismantled bread,
the thing her father said that hurt her, what
she dreamed. The are moments when the body is as numinous
as words, days that are the good flesh continuing.
Such tenderness, those afternoons and evenings,
saying blackberry, blackberry, blackberry.
Медитация в Лагунитас
Все новые мысли – всегда об утрате.
И в этом они похожи на все прежние мысли.
Взять, для примера, догадку о том, что любая отдельность
стирает исконную слепящую ясность общей идеи. В цирковом гриме
дятел пробует посмертный слепок
с черной березы – в самой этой сцене
есть трагизм расставания с исходным миром
неразделенного света. Или возьмем еще один факт:
поскольку в мире нет такой вещи,
что бы соотносилась с ягодой ежевики,
само это словосочетание – элегия к своему означающему.
Мы говорили об этом вчера поздней ночью, и голос
моего друга дрожал тоскливой натянутой проволокой –
тон почти обездоленный. Но почти сразу я осознал,
что говорить так, значит отменять все: справедливость,
сосны, волосы, женщин, тебя и меня. У меня была
близость с женщиной, и я помню, как, обнимая
ее хрупкие плечи, порой,
в ее присутствии я вдруг ощущал дикое рвение
– как потребность в соли – вернуться к реке моего детства
с ее островным ивняком, наивными песенками с прогулочных лодочек,
илистыми местами, где мы ловили крохотную оранжевато-серебряную
рыбку, что кличут тыквенным семечком. Все это едва ли имело к ней отношение.
Мы говорим, что томление тянется, так как желание удалено
на бесконечное расстояние. И я для нее, вероятно, был чем-то подобным.
Но я помню так много: как она преломляла хлеб,
слова отца, что так ее ранили,
и то, что ей снилось. Бывают иные моменты, когда тело столь же необозримо,
сколь и слова, дни – продолжение доброй плоти.
Та нежность, те полдни и вечера,
шепчущие ягоды ежевики, ягоды ежевики, ягоды ежевики.
Are you there? It’s summer. Are you smeared with the juice of cherries?
The light this morning is touching everything,
the grasses by the pond,
and the wind-chivvied water,
and the aspens on the bank, and the one white fir on its sunward side,
and the blue house down the road
and its white banisters which are glowing on top
and shadowy on the underside,
which intensifies the luster of the surfaces that face the sun
as it does to the leaves of the aspen.
Are you there? Maybe it would be best
to be the shadow side of a pine needle
on a midsummer morning
(to be in imagination and for a while
on a midsummer morning
the shadow side of a pine needle).
The sun has concentrated to a glowing point
in the unlit bulb of the porchlight on the porch
of the blue house down the road.
It almost hurts to look at it.
Are you there? Are you soaked in dreams still?
The sky is inventing a Web site called newest azure.
There are four kinds of birdsong outside
and a methodical early morning saw.
No, not a saw. It’s a boy on a scooter and the sun
on his black helmet is concentrated to a point of glowing light.
He isn’t death come to get us
And he isn’t truth arriving in a black T-shirt
chevroned up the arms in tongues of flame.
Are you there? For some reason I’m imagining
the small hairs on your neck, even though I know
you are dread and the muse
and my mortal fate and a secret.
It’s a boy on a scooter on a summer morning.
Did I say the light was touching everything?
***
Там ли ты? Это лето. Перепачкан ли ты соком вишен?
Этим утром свет касался всего:
травы у пруда,
и принужденной ветром воды,
и осин вдоль берега, и одной пихты на его солнечной стороне,
и синего дома вниз по дороге,
и его белых перил, бликующих сверху,
а снизу – лежащих в тени,
что только подчеркивало блеск плоскостей, подставленных солнцу –
так, как это бывает с листвой осины.
Там ли ты? Вероятно, было бы лучше
быть теневой стороною хвоинки
утром посреди лета
(быть в мыслях и на мгновение
утром посреди лета
теневой стороною хвоинки).
Солнце сосредоточилось в светящейся точке
незажженной лампочки на крыльце
синего дома вниз по дороге.
Смотреть на нее – просто невыносимо.
Там ли ты? Ты все еще погружен во сны?
Небо изобретает Вебсайт, названный новейшая синева.
Всего четыре вида птичьих напевов снаружи
и методичность ранней пилы.
Нет, не пилы. Это парнишка на скутере, и
солнце сосредоточилось в светящейся точке на его черном шлеме.
Он вовсе не смерть, идущая к нам,
и отнюдь не спешащая истина в черной футболке
с узором из языков пламени на рукавах.
Там ли ты? Почему-то я представляю
волоски на твоей шее, хотя мне известно
что ты – отвращение, муза,
моя судьба и секрет.
Этот парнишка на самокате в летнее утро.
Разве я сказал, что свет касался всего?
2
Late afternoons in June the fog rides in
across the ridge of pines, ghosting them,
and settling on the bay to give a muted gray
luster to the last hours of light and take back
what we didn’t know at midday we’d experience
as lack: the blue of summer and the dry spiced scent
of the summer woods. It’s as if some cold salt god
had wandered inland for a nap. You still see
herons fishing in the shallows, a kingfisher or an osprey
emerges for a moment out of the high, drifting mist,
then vanishes again. And the soft, light green leaves
of the thimbleberry and the ridged coffeeberry leaves
and the needles of the redwoods and pines look more sprightly
in the cool gray air with the long dusk coming on,
since fog is their natural element. I had it in mind
that this description of the weather would be a way
to say things come and go, a way of subsuming
the rhythms of arrival and departure to a sense
of how brief the time is on a summer afternoon
when the sun is warm on your neck and the world
might as well be a dog sleeping on a porch, or a child
for whom an afternoon is endless, endless. Time:
thick honey, and no one saying good-bye.
***
На июньские сумерки наплывает туман,
перекинувшись через гребень из сосен, высвечивая их
и оседая возле залива, чтобы сообщить немой серый
отсвет последним часам и забрать
то, что в полдень – в тайне от нас самих – переживалось нами
как недостаток: синий цвет лета и сухой пряный запах
летних лесов. Все это было так, словно холодный соляной бог
забрел на сушу, чтобы вздремнуть. Ты по-прежнему различаешь
цапель, охотящихся на мелководье, зимородок или скопа
возникает на миг в вышине, сквозит дымку
и исчезает опять. И мягкие светло-зеленые листья
мелкоцветной малины и холмистые кроны калифорнийского жостера,
а также хвоя секвой и сосен – все они выглядят чуть живей
в прохладном сереющем воздухе подступающего заката,
поскольку туман – их естественный спутник. Я полагал,
что эта пейзажная зарисовка даст мне сказать,
как все пребывает и вновь сходит на нет, или позволит вдруг подчинить
ритмы встреч и разлук чувству краткости
и скоротечности времени летом после полудня,
когда от солнца шее тепло, и сам мир
с тем же успехом мог сниться псу, прикорнувшему на крыльце, или ребенку,
для которого полдень поистине вечен, вечен. Время:
вязкий мед и никто не скажет – счастливо.
3
SNOWY EGRET
A boy walks out in the morning with a gun.
Bright air, the smell of grass and leaves
and reeds around the pond October smells.
A scent of apples from the orchard in the air.
A smell of ducks. Two cinnamon teal,
he thinks they are teal, the ones he’d seen
the night before as the pond darkened
and he’d thought the thought that the dark
was coming earlier. He is of an age
when the thought of winter is a sexual thought,
the having thoughts of one’s own is sexual,
the two ducks muttering and gliding
toward the deeper reeds away from him,
as if distance were a natural courtesy,
is sexual, which is to say, a mystery, an ache
inside his belly and his chest that rhymes
somehow with the largeness of the night.
The stars conjuring themselves from nothing
but the dark, as if to say it’s not as if
they weren’t all along just where they were,
ached in the suddenly swifter darkening
and glittering and cold. He’s of an age
when the thought of thinking is, at night,
a sexual thought. This morning in the crystal
of the air, dew, and the sunlight that the dew
has caught on the grass blades sparkling at his feet,
he stalks the pond. Three larger ducks,
mallards probably, burst from the reeds
and wheel and fly off south. Three redwings,
gone to their winter muteness, fly three ways
across the pond to settle on three cattails
opposite or crossways from each other,
perch and shiver into place and look around.
That’s when he sees the snowy egret
in the rushes, pure white and stone still
and standing on one leg in that immobile,
perfect, almost princely way. He ’d seen it
often in the summer, often in the morning
and sometimes at dusk, hunting the reeds
under the sumac shadows on the far bank.
He’d watched the slow, wide fanning
of its wings, taking off and landing,
the almost inconceivably slow way
it raised one leg and then another
when it was stalking, the quick cocking
of its head at sudden movement in the water,
and the swift, darting sureness when it stabbed
the water for a stickleback or frog. once
he’d seen it, head up, swallowing a gopher,
its throat bulging, a bit of tail and a trickle
of blood just visible below the black beak.
Now it was still and white in the brightness
of the morning in the reeds. He liked
to practice stalking, and he raised the gun
to his shoulder and crouched in the wet grasses
and drew his bead just playfully at first.
Снежная цапля
Мальчик выходит утром с ружьем.
Светлый воздух, запах травы и листьев,
и тростник у пруда обдает октябрем.
Аромат яблок из сада рассеян в воздухе.
Пахнет утками. Пара коричневатых чирков –
чирков, как он думает – тех, что он видел
минувшей ночью, когда пруд почернел,
и ему на ум пришла мысль: может быть, тьма
надвинется раньше. Он в том самом возрасте, когда мысль
о зиме – есть мысль о влечении.
Возбуждает сам факт наличия собственных мыслей,
две уточки переговариваются и скользят
дальше вглубь, в камыши, что поодаль, как если бы
такая дистанция была продиктована естественным тактом,
влечение, в сущности, означает загадку, боль
в его животе и груди, неведомым образом
зарифмованную с огромностью ночи.
Созвездия, вызвавшие себя
из темноты и пустоты, словно они
не все время там, где они есть,
томящиеся в стремительно наступающей тьме,
блеске и холоде. Он в том возрасте,
когда ночью мысль о мышлении
есть мысль возбуждающая. Этим утром в кристалле
воздуха, росе и лучах, ею собранных,
а затем – преломленных на острых травинках –
он разведывает пруд. Три утки побольше –
кряквы, должно быть – вырываются из тростника,
разгоняются и поднимаются ввысь в сторону юга. Три белобровика
предались своей зимней немоте, трижды перепорхнув
через пруд и примостившись на трех стеблях рогоза
напротив или наискосок друг от друга,
вжимаясь и слегка подрагивая, осматриваясь по сторонам.
И это был тот самый миг, когда он увидел снежную цаплю
посреди ситника, ослепительно белую и неподвижную как изваяние,
балансирующую на одной ноге в сей недвижимой,
непогрешимой, почти царственной позе. Он нередко
встречал ее летом, чаще всего поутру
и порой на закате, охотящейся в тростнике
в тенях сумаха на том берегу.
Он наблюдал, как неторопливо и широко разворачивались
веера ее крыльев, как она поднималась в воздух и приземлялась,
как с непостижимой медлительностью
она переступала с одной ноги на другую
пока выслеживала добычу, как молниеносно вздрагивала
ее голова в ответ на движенье в воде,
и столь же резкую уверенную устремленность, с которой она
пронзала водную гладь за корюшкой или лягушкой. Как-то раз
он видел, как она, задрав голову, заглатывала суслика,
ее горло булькало, кусочек хвоста и струйка крови
были едва различимы внизу черного клюва.
Теперь же она стояла недвижной и белой
в утренней ясности – там, в тростнике. Ему было в радость
вот так разведывать, и тут он поднял ружье
до плеча и принялся красться по мокрой траве,
наводя мушку – сначала лишь понарошку.
4
MEDITATION AT LAGUNITAS
All the new thinking is about loss.
In this it resembles all the old thinking.
The idea, for example, that each particular erases
the luminous clarity of a general idea. That the clownfaced
woodpecker probing the dead sculpted trunk
of that black birch is, by his presence,
some tragic falling off from a first world
of undivided light. or the other notion that,
because there is in this world no one thing
to which the bramble of blackberry corresponds,
a word is elegy to what it signifies.
We talked about it late last night and in the voice
of my friend, there was a thin wire of grief, a tone
almost querulous. After a while I understood that,
talking this way, everything dissolves: justice,
pine, hair, woman, you and I. There was a woman
I made love to and I remembered how, holding
her small shoulders in my hands sometimes,
I felt a violent wonder at her presence
like a thirst for salt, for my childhood river
with its island willows, silly music from the pleasure boat,
muddy places where we caught the little orange-silver fish
called pumpkinseed. It hardly had to with her.
Longing, we say, because desire is full
of endless distances. I must have been the same to her.
But I remember so much, the way her hands dismantled bread,
the thing her father said that hurt her, what
she dreamed. The are moments when the body is as numinous
as words, days that are the good flesh continuing.
Such tenderness, those afternoons and evenings,
saying blackberry, blackberry, blackberry.
Медитация в Лагунитас
Все новые мысли – всегда об утрате.
И в этом они похожи на все прежние мысли.
Взять, для примера, догадку о том, что любая отдельность
стирает исконную слепящую ясность общей идеи. В цирковом гриме
дятел пробует посмертный слепок
с черной березы – в самой этой сцене
есть трагизм расставания с исходным миром
неразделенного света. Или возьмем еще один факт:
поскольку в мире нет такой вещи,
что бы соотносилась с ягодой ежевики,
само это словосочетание – элегия к своему означающему.
Мы говорили об этом вчера поздней ночью, и голос
моего друга дрожал тоскливой натянутой проволокой –
тон почти обездоленный. Но почти сразу я осознал,
что говорить так, значит отменять все: справедливость,
сосны, волосы, женщин, тебя и меня. У меня была
близость с женщиной, и я помню, как, обнимая
ее хрупкие плечи, порой,
в ее присутствии я вдруг ощущал дикое рвение
– как потребность в соли – вернуться к реке моего детства
с ее островным ивняком, наивными песенками с прогулочных лодочек,
илистыми местами, где мы ловили крохотную оранжевато-серебряную
рыбку, что кличут тыквенным семечком. Все это едва ли имело к ней отношение.
Мы говорим, что томление тянется, так как желание удалено
на бесконечное расстояние. И я для нее, вероятно, был чем-то подобным.
Но я помню так много: как она преломляла хлеб,
слова отца, что так ее ранили,
и то, что ей снилось. Бывают иные моменты, когда тело столь же необозримо,
сколь и слова, дни – продолжение доброй плоти.
Та нежность, те полдни и вечера,
шепчущие ягоды ежевики, ягоды ежевики, ягоды ежевики.