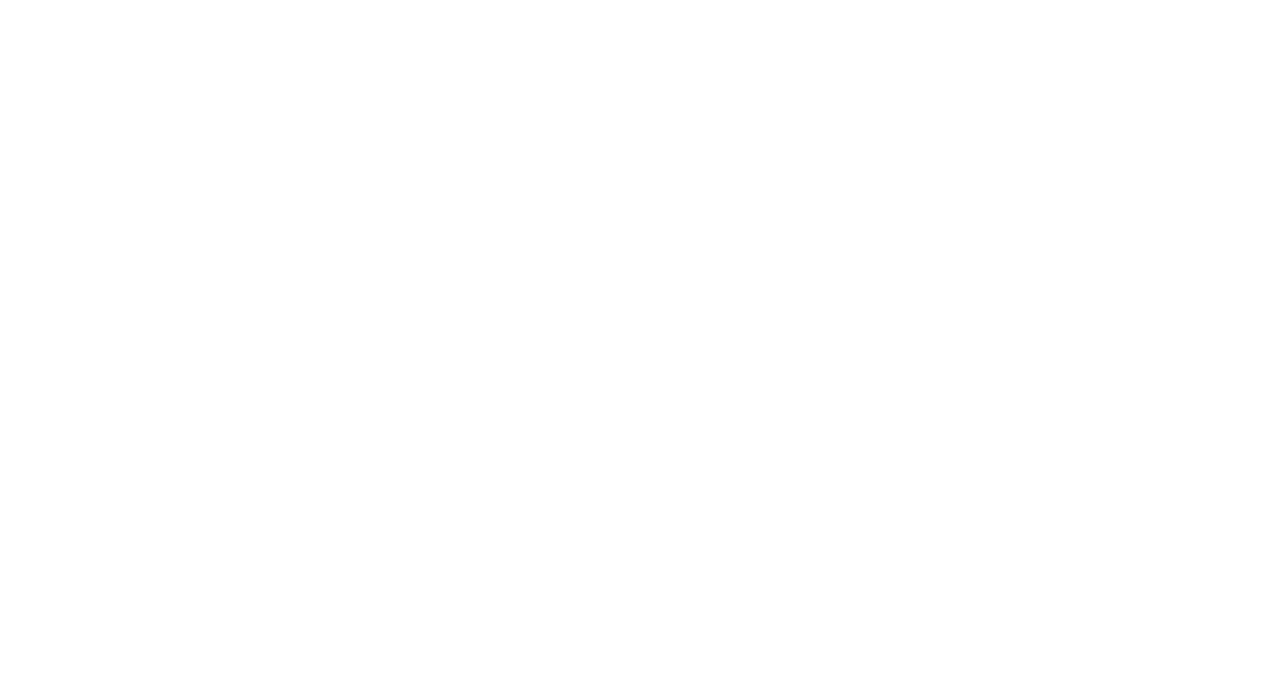эссе
Свет границы
Петр Кочетков
Петр Кочетков – поэт, филолог, эссеист, переводчик с французского и шведского, соавтор коллективного альманаха «Лес растет».
...Основным нервом его поэзии, как и ее основной темой, является, очевидно, переживание смертности, конечности и неотделимое от него переживание времени и подверженности утрате. Такой вывод несложно сделать, взяв в руки практически любой его текст любого периода (в этом смысле он является автором особенно последовательным и постоянным, пусть и проработка, и усложнение этой темы меняются со временем); такой вывод, хотя и является окончательным и точным, не требует особенно вдумчивого и внимательного отношения к его текстам. Множество поэтов, как известно, являлись «элегиками» «по существу», не могли существовать без постоянной медитации над истлевшим и распадающимся, прозревая в том отблески «вечности», и т. д. Все это, даже имея за собой своего рода непреходящую поэтическую «новизну» для каждого нового поколения (и отчасти соотносясь, пожалуй, с самой сутью поэзии и самой сутью любой деятельности в искусстве), вряд ли могло бы, учитывая все столько раз уже сказанное на эту тему, быть чем-либо, допустим, современным (и отчасти даже «будущим», то есть разверстым к еще не совершившемуся «посеву») настоящей эпохе, ставя и, в меру сил и точки своей видимости, отвечая на те вопросы, которые эта эпоха (наша общая современная эпоха, длящаяся некоторое число столетий) мыслит своими. Что это за вопросы и как (как мы уже поняли) этот поэт сеет в них безнадежные зерна?
Смерть и время, как было сказано, ведут свою утончающуюся и укрепляющуюся нить через весь его творческий и жизненный путь – поэтому мы, фокусируясь исключительно на том уникальном и плодотворном преломлении этих тем, которые можно найти в его стихах, рассмотрим те тексты, что отличаются от остальных (как от его современников, так и от его собственных) тем самым «необщим выражением» (по сути, тем минимумом, который и отличает и определяет «лицо»), которое он сам ценил больше всего как единственную опору и единственный жизненно-поэтический «ergo sum».
Смерть и время, как было сказано, ведут свою утончающуюся и укрепляющуюся нить через весь его творческий и жизненный путь – поэтому мы, фокусируясь исключительно на том уникальном и плодотворном преломлении этих тем, которые можно найти в его стихах, рассмотрим те тексты, что отличаются от остальных (как от его современников, так и от его собственных) тем самым «необщим выражением» (по сути, тем минимумом, который и отличает и определяет «лицо»), которое он сам ценил больше всего как единственную опору и единственный жизненно-поэтический «ergo sum».
При чтении его текстов почти всегда («почти» вставлено, конечно, для вежливости, на деле – всегда) остается ощущение того, что обычно называют «холодностью». Эта «холодность», просветленная и достигающая в лучших и самых напряженных текстах странной осчастливленности того, кто чудом вышел из парадокса, все еще оставаясь под его тенью, является, в целом, общим местом при разговоре о нем еще со времен его жизни. Но откуда, однако, исходит она и откуда, из каких пространств, веет?
Заметим для начала, что ощущается она (по крайней мере, для того, кто ощущает ее, проходя в самих складках и трещинах этих слов, а не по их поверхности) повсеместно, даже там, где он пытается не то чтобы делать вид или надевать маску, а искренне радоваться и наслаждаться, вживаться в нынешний, мимолетный момент. Так происходит и в совсем ранних текстах (например, в «Моей жизни»), и в более поздних. «Ум», который поэт действительно так любит «забывать», пусть у него это никогда не получается, дает о себе знать и там, где ему, казалось бы, совсем уже нет места, – и веет тем самым «холодом», неспособностью отдаться происходящему, раствориться в потоке ощущаемого настоящего, нынешнего, выдавая себя в само́м подборе слов, неизменно тяготеющих к абстракциям и понятиям, к аналитизму («разнообразить наслажденья», «но постоянно ты мила»).
Однако, несмотря на очевидность этого «холода» для любого читателя (в том, что касается «меланхоличных» текстов), сама природа этой «холодности» требует уточнения. Его субъект, как бы вследствие граничащего с «проклятием» дара ума, внутренне не способен находиться «внутри» физически переживаемого, не способен взаимодействовать с наличным миром не с позиции «извне», «отстранения», «посторонности». Это однозначно не «холодность» демонизма или скуки, привычная для романтического дискурса его времени. Это, прежде всего, холодность взгляда извне, холод вненаходимости, недоступность взгляда, неспособного воспринимать что-либо как безусловно «свое», как принадлежащее «себе», и потому смотрящего на все с (в пределе и по существу – бесконечной) дистанции, одной только как будто бы и дающей его объекту возможность быть самим собой (при том что настоящее общение и соприкосновение между говорящим и его собеседником внутри подобной позиции оказывается невозможным; вернее, оно как будто откладывается и переносится в иную сферу и в иную среду, вовне посюсторонних обстоятельств пространства и времени; это подобно тому, как если бы разговор между двумя людьми из плоти и крови переносился бы говорящим (отчасти даже насильно для собеседника, но иначе общаться говорящий просто не может) в область общения их ангелов, которые, в силу «отсутствия тел», бесконечно далеки друг от друга и при этом ближе друг к другу, чем облаченные плотью люди). Эта позиция отдаленно похожа на позицию человека, созерцающего улыбку того, кого он любит, но к кому никогда не осмелится подойти из страха разрушить или внести ложь, поддаться лжи, и потому может и хочет лишь наблюдать с расстояния вытянутой руки.
Заметим для начала, что ощущается она (по крайней мере, для того, кто ощущает ее, проходя в самих складках и трещинах этих слов, а не по их поверхности) повсеместно, даже там, где он пытается не то чтобы делать вид или надевать маску, а искренне радоваться и наслаждаться, вживаться в нынешний, мимолетный момент. Так происходит и в совсем ранних текстах (например, в «Моей жизни»), и в более поздних. «Ум», который поэт действительно так любит «забывать», пусть у него это никогда не получается, дает о себе знать и там, где ему, казалось бы, совсем уже нет места, – и веет тем самым «холодом», неспособностью отдаться происходящему, раствориться в потоке ощущаемого настоящего, нынешнего, выдавая себя в само́м подборе слов, неизменно тяготеющих к абстракциям и понятиям, к аналитизму («разнообразить наслажденья», «но постоянно ты мила»).
Однако, несмотря на очевидность этого «холода» для любого читателя (в том, что касается «меланхоличных» текстов), сама природа этой «холодности» требует уточнения. Его субъект, как бы вследствие граничащего с «проклятием» дара ума, внутренне не способен находиться «внутри» физически переживаемого, не способен взаимодействовать с наличным миром не с позиции «извне», «отстранения», «посторонности». Это однозначно не «холодность» демонизма или скуки, привычная для романтического дискурса его времени. Это, прежде всего, холодность взгляда извне, холод вненаходимости, недоступность взгляда, неспособного воспринимать что-либо как безусловно «свое», как принадлежащее «себе», и потому смотрящего на все с (в пределе и по существу – бесконечной) дистанции, одной только как будто бы и дающей его объекту возможность быть самим собой (при том что настоящее общение и соприкосновение между говорящим и его собеседником внутри подобной позиции оказывается невозможным; вернее, оно как будто откладывается и переносится в иную сферу и в иную среду, вовне посюсторонних обстоятельств пространства и времени; это подобно тому, как если бы разговор между двумя людьми из плоти и крови переносился бы говорящим (отчасти даже насильно для собеседника, но иначе общаться говорящий просто не может) в область общения их ангелов, которые, в силу «отсутствия тел», бесконечно далеки друг от друга и при этом ближе друг к другу, чем облаченные плотью люди). Эта позиция отдаленно похожа на позицию человека, созерцающего улыбку того, кого он любит, но к кому никогда не осмелится подойти из страха разрушить или внести ложь, поддаться лжи, и потому может и хочет лишь наблюдать с расстояния вытянутой руки.
Эта позиция, не говоря уже об известной этической добросовестности, имеет как для поэта, так и для человека, далеко идущие последствия. Во-первых, такого рода отношения устанавливаются не только с потенциальным собеседником в любви, но и с потенциальным читателем. Его этико-эстетическим кредо можно назвать общение с позиции неявленности, неприсутствия, отголоска. И главным тут является не сама позиция, а оба члена этой пропозиции, и их соединение, то есть именно то, что с подобной позиции общение вестись не перестает, диалог не прекращается, а изменяется, перерастает сам себя под влиянием разрезающей его границы. Однако позицию говорящего было бы неверно назвать пограничной. Скорее, это позиция, вводящая границу внутрь посюсторонности, позиция одновременного соприсутствия и вненаходимости, «вненаходимости внутри». Позиция, остраняющая, с одной стороны, находящееся «по эту сторону» и в то же время парадоксальным образом подвешивающая само разделение между сторонами, выявляя «по эту» зеркальные черты того, что «по ту». Посюстороннему как бы протягивается рукопожатная рука «оттуда», рука взгляда, одновременно сжигающая своим холодом и высветляющая, дающая свободу от времени.
Свобода от времени (и противоположная ей зависимость от него) в действительности является одним из главных предметов его внутренней озабоченности. Будучи меланхоликом par excellence, до известной степени, как лирический субъект, становясь самой олицетворенной меланхолией, он, видя временность всего существующего, в том числе собственного отношения к миру («закостенение чувств»), не может (как и все мы) не стремиться к «неизменному», «нерушимому». Но с чем оно для него связано и как достигается (если все же, вопреки всему, возможно)?
Дружба. Но какие отношения подразумевает «дружба»? Для него – предельную (и никак иначе) ненавязчивость, ненасильственность, даже незаметность; это относится, разумеется, и к дружбе с будущим (а любой читатель, как известно, «будущий») читателем. «Ты их задумчиво прочтешь, / Глаза потупишь молчаливо… / И тихо лист перевернешь». Иначе говоря, при чтении этих текстов с тобой нечто произойдет, но это нечто, отличаясь предельной скромностью, отложит след разве что в такой глубине, что ее почти невозможно будет отличить от поверхности, не привлекающей никакого внимания (остается «тишина»; но что дальше?). Неприметность и необязательность при этом оказываются равны на деле ничему другому, кроме как полной интегрированности во временном, преходящем, невыделяющемся, необособленном – вернее, «необщность», уникальность, событийность оказываются настолько растворены в поверхности времени, что внешне от чтения остается лишь «тишина переворачивания листов», точно так же, как неумолимо и равнодушно к своему содержанию «переворачиваются» листы истории и жизни.
Поэт, таким образом, не приемлет какой-либо внешней выделенности своего «я» из общего потока, но именно в этом потоке и пытается найти искомую «неизменность» своего «я» и связанного с ним, того, что его окружает. Как это разрешить? Как примирить верность преходящему, разочарование во всем видимом и уверенность в причастности вечному – вечному именно постольку, поскольку помнящему свою преходящесть?
О дружба нежная! останься неизменной!
Дружба. Но какие отношения подразумевает «дружба»? Для него – предельную (и никак иначе) ненавязчивость, ненасильственность, даже незаметность; это относится, разумеется, и к дружбе с будущим (а любой читатель, как известно, «будущий») читателем. «Ты их задумчиво прочтешь, / Глаза потупишь молчаливо… / И тихо лист перевернешь». Иначе говоря, при чтении этих текстов с тобой нечто произойдет, но это нечто, отличаясь предельной скромностью, отложит след разве что в такой глубине, что ее почти невозможно будет отличить от поверхности, не привлекающей никакого внимания (остается «тишина»; но что дальше?). Неприметность и необязательность при этом оказываются равны на деле ничему другому, кроме как полной интегрированности во временном, преходящем, невыделяющемся, необособленном – вернее, «необщность», уникальность, событийность оказываются настолько растворены в поверхности времени, что внешне от чтения остается лишь «тишина переворачивания листов», точно так же, как неумолимо и равнодушно к своему содержанию «переворачиваются» листы истории и жизни.
Поэт, таким образом, не приемлет какой-либо внешней выделенности своего «я» из общего потока, но именно в этом потоке и пытается найти искомую «неизменность» своего «я» и связанного с ним, того, что его окружает. Как это разрешить? Как примирить верность преходящему, разочарование во всем видимом и уверенность в причастности вечному – вечному именно постольку, поскольку помнящему свою преходящесть?
Для того, кто осознает свою подверженность времени, неизбежно встает вопрос о природе памяти. Память, будучи связующим звеном между личностью и временем, является еще одной центральной его «темой» (или еще одной вариацией). Тема эта, как и все остальные, задается в его творчестве практически сразу; пример тому – достаточно ранний текст «Отрывки из поэмы “Воспоминания”».
Память в привычном для нас, обиходном смысле служит соотнесению находящегося в потоке времени сознания с его (или не только его) прошедшим опытом. «Прошлое», таким образом, является одной из частей (вместе с «настоящим» и «будущим») воображаемого континуума, в которое сознание представляет себя погруженным (с четкими, по крайней мере, в рамках обыденного, практического восприятия, границами между тем, что «было», что «есть» и что «будет»).
Другое дело, когда одна из частей этого воображаемого континуума выступает вперед настолько, что, разрушая казавшиеся априорными границы и перемешивая, как карты, значения временных обозначений, проглатывает внутрь себя любые противоречия, связанные с взаимодействием частей между собой и субъекта с ними. Для него, как несложно заметить, подобной всеобъемлющей временной категорией становится, разумеется, прошлое. Конечно, для начала он призывает память как неподвластную времени блаженную страну, где все и всё всегда живо. Однако память для него это не только (или не столько) место для побега от «нынешнего». Скорее, «воспоминание» оказывается отдельной, независимой, по сути, от временных привязок категорией, отвечающей за определенные и сложно устроенные отношения между субъектом и временем. «Настоящее» в этом смысле является точно таким же «воспоминанием», что и образы прошлого, а те, в свою очередь, выходя за границы любого отчуждения временем, становятся не менее осязаемы и реальны, чем непосредственно явленное «здесь и сейчас». И все это – все из той же, одной и той же, двоичной позиции: извечная дистанция по отношению к настоящему (восприятие любого нынешнего как «прошедшего», любого «здесь и сейчас» как утерянного, одновременно непосредственно проживаемого и бесконечно далекого) позволяет преодолеть границу между потерянным и имеющемся «под рукой», так что само «утерянное» (всегда и постоянно) оказывается открытым к безвременному и длящемуся сквозь времена рукопожатию («и руку друга он с восторгом пожимает»; отметим, что рукопожатие для него – одновременно признак дружеской интимности и холодной дистанции одиночества и «бесплодия» («руки пожатье заменило / мне поцелуй прекрасных уст»).
«Я всюду шествую, минувшим окруженный». Руина, обломок, сумерки (со всей присущей этому слову временной двойственностью и неопределенностью) – все это, таким образом, присутствует в поле его зрения с самого начала. Он, юный меланхолик, запросто читает руины как руны, преподающие ему «уроки времени». И, ожидаемым ли или неожиданным образом, хвала памяти и истории как спасению от «безгласного забвенья» по ходу «прогулки» и вслушивания в голоса потерянных эпох переходит во вторичное открытие и утверждение «незыблемого закона тления» (и степени парадоксальности этой формулировки соответствует лишь «немое поученье времени»). «Все гибнет, все падет». Это мы, кажется, «знали» еще с момента самой первичной встречи с феноменом времени. За этим вторичным утверждением следует и вторичная утопия («И новый мир для вас...»). Но затем, заканчивая этот, по сути, слаборазрешимый отрывок, он возвращается наконец к тому, что одно может вывести его из неприкаянной зависимости от немой и воображаемой истории – к «воспоминанию» о самом себе и о своем положении в мире. И как, может быть, ни странно на фоне всего, что было в отрывках выше, для себя он выбирает и утверждает именно путь, целиком растворенный в ландшафте хотя и памятном и значимом, но полностью независимом от его включенности в память или историю – иначе говоря, спокойно отданном на волю времени и забвению – и именно потому, становясь вечным воспоминанием без записи или выражения, приобретающим характер вневременного (так как время, конечно, присутствует только там, где субъект пытается ему что-либо противопоставить): «Так, перешедши жизнь незнаемой (sic) тропою / Сей подвиг (sic) совершив, усталою главою / склонюсь я наконец ко смертному одру; / Для дружбы, для любви, для памяти умру; / И все умрет со мной! Но вы...» Да, вам, «любимцам Феба», сочленяющим в «сладких песнях» настоящее и будущее посредством своего гения и полученной им славы, есть чем отразить «удар» времени, есть с помощью чего увернуться от него, защитить от него свой «памятник», «убежать тленья», продолжить звучание своего (и общечеловеческого) голоса среди природного «равнодушия» и т. д. «Вам», но не «мне». «Мой» удел, удел говорящего, – неотделимое от красноречивого и полноценного (и без моей речи) не-присутствие, забвение, которое одно способно дать свободу существования во времени. Дружба, любовь и память, как ни странно, обретают ценность и самостоятельность лишь при условии их несохранности и абсолютной внешней невыделенности, «незаметности» – даже в поэтическом слове (которое и не является ценностью само по себе – ценна лишь жизнь «воспоминания», то есть сама жизнь, которая в таком случае встает по ту сторону временных противоречий).
Память в привычном для нас, обиходном смысле служит соотнесению находящегося в потоке времени сознания с его (или не только его) прошедшим опытом. «Прошлое», таким образом, является одной из частей (вместе с «настоящим» и «будущим») воображаемого континуума, в которое сознание представляет себя погруженным (с четкими, по крайней мере, в рамках обыденного, практического восприятия, границами между тем, что «было», что «есть» и что «будет»).
Другое дело, когда одна из частей этого воображаемого континуума выступает вперед настолько, что, разрушая казавшиеся априорными границы и перемешивая, как карты, значения временных обозначений, проглатывает внутрь себя любые противоречия, связанные с взаимодействием частей между собой и субъекта с ними. Для него, как несложно заметить, подобной всеобъемлющей временной категорией становится, разумеется, прошлое. Конечно, для начала он призывает память как неподвластную времени блаженную страну, где все и всё всегда живо. Однако память для него это не только (или не столько) место для побега от «нынешнего». Скорее, «воспоминание» оказывается отдельной, независимой, по сути, от временных привязок категорией, отвечающей за определенные и сложно устроенные отношения между субъектом и временем. «Настоящее» в этом смысле является точно таким же «воспоминанием», что и образы прошлого, а те, в свою очередь, выходя за границы любого отчуждения временем, становятся не менее осязаемы и реальны, чем непосредственно явленное «здесь и сейчас». И все это – все из той же, одной и той же, двоичной позиции: извечная дистанция по отношению к настоящему (восприятие любого нынешнего как «прошедшего», любого «здесь и сейчас» как утерянного, одновременно непосредственно проживаемого и бесконечно далекого) позволяет преодолеть границу между потерянным и имеющемся «под рукой», так что само «утерянное» (всегда и постоянно) оказывается открытым к безвременному и длящемуся сквозь времена рукопожатию («и руку друга он с восторгом пожимает»; отметим, что рукопожатие для него – одновременно признак дружеской интимности и холодной дистанции одиночества и «бесплодия» («руки пожатье заменило / мне поцелуй прекрасных уст»).
«Я всюду шествую, минувшим окруженный». Руина, обломок, сумерки (со всей присущей этому слову временной двойственностью и неопределенностью) – все это, таким образом, присутствует в поле его зрения с самого начала. Он, юный меланхолик, запросто читает руины как руны, преподающие ему «уроки времени». И, ожидаемым ли или неожиданным образом, хвала памяти и истории как спасению от «безгласного забвенья» по ходу «прогулки» и вслушивания в голоса потерянных эпох переходит во вторичное открытие и утверждение «незыблемого закона тления» (и степени парадоксальности этой формулировки соответствует лишь «немое поученье времени»). «Все гибнет, все падет». Это мы, кажется, «знали» еще с момента самой первичной встречи с феноменом времени. За этим вторичным утверждением следует и вторичная утопия («И новый мир для вас...»). Но затем, заканчивая этот, по сути, слаборазрешимый отрывок, он возвращается наконец к тому, что одно может вывести его из неприкаянной зависимости от немой и воображаемой истории – к «воспоминанию» о самом себе и о своем положении в мире. И как, может быть, ни странно на фоне всего, что было в отрывках выше, для себя он выбирает и утверждает именно путь, целиком растворенный в ландшафте хотя и памятном и значимом, но полностью независимом от его включенности в память или историю – иначе говоря, спокойно отданном на волю времени и забвению – и именно потому, становясь вечным воспоминанием без записи или выражения, приобретающим характер вневременного (так как время, конечно, присутствует только там, где субъект пытается ему что-либо противопоставить): «Так, перешедши жизнь незнаемой (sic) тропою / Сей подвиг (sic) совершив, усталою главою / склонюсь я наконец ко смертному одру; / Для дружбы, для любви, для памяти умру; / И все умрет со мной! Но вы...» Да, вам, «любимцам Феба», сочленяющим в «сладких песнях» настоящее и будущее посредством своего гения и полученной им славы, есть чем отразить «удар» времени, есть с помощью чего увернуться от него, защитить от него свой «памятник», «убежать тленья», продолжить звучание своего (и общечеловеческого) голоса среди природного «равнодушия» и т. д. «Вам», но не «мне». «Мой» удел, удел говорящего, – неотделимое от красноречивого и полноценного (и без моей речи) не-присутствие, забвение, которое одно способно дать свободу существования во времени. Дружба, любовь и память, как ни странно, обретают ценность и самостоятельность лишь при условии их несохранности и абсолютной внешней невыделенности, «незаметности» – даже в поэтическом слове (которое и не является ценностью само по себе – ценна лишь жизнь «воспоминания», то есть сама жизнь, которая в таком случае встает по ту сторону временных противоречий).
Белая финская ночь для него – не что иное, как метафора собственного способа существования. Ночной день, светлый ночной небосвод, прозрачный и в прозрачности своей причастный обоим временам суток сразу, являющий собой наглядное воплощение вневременья, как бы нахождения в вечном промежутке между сутками, когда день уже спустился внутрь ночи, стал ночью, – когда само разделение уже не имеет внутреннего смысла. И так же, как может быть ночной день, может быть и дневная ночь – ощущение непричастности и затмения на общем празднике света – так, что последнее, дополняя, дает возможность перейти к первому. Ощущение ночи дня открывает дверь к дню ночи – вернее, речь не идет о каком-либо гимническом прославлении последней, напротив, речь идет именно о преодолении кажущихся разделений и границ. «Уж поздно, день погас; но ясен неба свод, / На скалы финские без мрака ночь нисходит, / И только что себе в убор / Алмазных звезд ненужный хор / На небосклон она выводит!» Всемировая ясность, подобная ясности отражающей воды («Сошел – и смотрится в зерцале гладких вод!»), делает «хор алмазных звезд» (сложно представить, кто кроме него мог бы подобрать такой эпитет) «ненужным»: во всеобщей проницаемости дневным светом ночи их свет оказывается лишь не необходимой частностью.
Не так ли со стихами да и в целом с чем угодно (культурой, историей, искусством и т. д.)? Говорящий текста «Финляндия» вновь поднимает тему времени и забвения, но в этот раз эта тема уже не трактуется им сколь-либо трагически (если, впрочем, когда и где-либо на самом деле им так трактовалась). Восклицание об «отечестве Одиновых детей» естественным образом сменяется восклицанием, утверждающим «один закон, закон уничтоженья». Но забвение парадоксальным образом называется «обетованным» и подает говорящему «таинственный привет».
И все потому, что «гроза времен» может «что-то говорить», «грозить» одному лишь «воображенью». Тот, кто перестал ассоциировать свою личность с историей и памятью, с памятью как историей, кто живет «в безвестности», «невнимаемый», с «незвонкими струнами», любя жизнь лишь «ради жизни», не нуждается в противостоящих забвению лучах культуры и истории так же, как белая ночь «не нуждается» в звездах. Подобного рода отказ один только и позволяет увидеть ночь белой, забвение – обетованным, а звуки и мечты – «награжденными» самими собою, без внимающего и запоминающего.
Не так ли со стихами да и в целом с чем угодно (культурой, историей, искусством и т. д.)? Говорящий текста «Финляндия» вновь поднимает тему времени и забвения, но в этот раз эта тема уже не трактуется им сколь-либо трагически (если, впрочем, когда и где-либо на самом деле им так трактовалась). Восклицание об «отечестве Одиновых детей» естественным образом сменяется восклицанием, утверждающим «один закон, закон уничтоженья». Но забвение парадоксальным образом называется «обетованным» и подает говорящему «таинственный привет».
И все потому, что «гроза времен» может «что-то говорить», «грозить» одному лишь «воображенью». Тот, кто перестал ассоциировать свою личность с историей и памятью, с памятью как историей, кто живет «в безвестности», «невнимаемый», с «незвонкими струнами», любя жизнь лишь «ради жизни», не нуждается в противостоящих забвению лучах культуры и истории так же, как белая ночь «не нуждается» в звездах. Подобного рода отказ один только и позволяет увидеть ночь белой, забвение – обетованным, а звуки и мечты – «награжденными» самими собою, без внимающего и запоминающего.
Такой же базовой, как и белая ночь, одновременно изначальной и конечной точкой говорения для него являются «элизийские поля». Сам по себе этот топос так же амбивалентен, как и ночной день: загробные острова блаженных, не жизнь и не небытие, где души существуют бесстрастно, без горя, но и без радости. Для него, однако, подобное восприятие этого образа было бы все же слишком однозначным. Повторим еще раз, что, несмотря на некоторые тексты, которые могут дать обратное впечатление, он не пытается уйти в одностороннее отрицание или отстранение, а пытается (осознавая то, или нет) выйти за пределы самих членов противопоставления, сохраняя промежуточную позицию, позволяющую внести «там» в «здесь», а «здесь» в «там», таким образом создавая возможность свободного перехода, не скованного бытием или временем. Да, его трансгрессия, скажем так, замешана на отказе, но отказ этот – лишь средство для полноценного утверждения жизни, вернее, ее самоутверждения, уже не нуждающегося в волевых «действиях» субъекта.
Крайне примечательный одноименный текст 20-го или 21-го года являет наглядный образец того, как перенос «поту-» в «посю-» и обратно создает возможность для преодолевающего любые границы общения (главной и, по сути, единственно по-настоящему для него ценной категории).
Пир извечной дружеской встречи пронизывает все миры, являя собой константу, независимую от любых критических изменений, связанных с переходом границы: «Где б ни жил я, мне все равно», «Прибор покойнику оставить / Не позабудьте за столом», «Меж тем за тайными брегами… / Веселых, добрых мертвецов / Я подружу заочно с вами», «И огласят приветы наши / Весь необъемлемый Аид!».
Но это, конечно, пока что только подступы (местами гротескно смешные, хотя и подкупающие своей самоуверенностью, как дружба «веселых, добрых мертвецов») к более парадоксальному осмыслению отношений вечности, времени и конечности.
Крайне примечательный одноименный текст 20-го или 21-го года являет наглядный образец того, как перенос «поту-» в «посю-» и обратно создает возможность для преодолевающего любые границы общения (главной и, по сути, единственно по-настоящему для него ценной категории).
Пир извечной дружеской встречи пронизывает все миры, являя собой константу, независимую от любых критических изменений, связанных с переходом границы: «Где б ни жил я, мне все равно», «Прибор покойнику оставить / Не позабудьте за столом», «Меж тем за тайными брегами… / Веселых, добрых мертвецов / Я подружу заочно с вами», «И огласят приветы наши / Весь необъемлемый Аид!».
Но это, конечно, пока что только подступы (местами гротескно смешные, хотя и подкупающие своей самоуверенностью, как дружба «веселых, добрых мертвецов») к более парадоксальному осмыслению отношений вечности, времени и конечности.
Он не обошел стороной еще один из излюбленных топосов модерна, а именно топос «возвращения на родину», как это часто бывает, слитый с мотивом отказа от городской культурной лжи ради возвращения к «естественному», «родному» и изначальному, вместе с возвращением слову «культура» его первичного значения, связанного с возделыванием земли. Последнему, впрочем, далеко не у всех придается столь большая и особая роль, как у него.
Приобщение к «земле» (под которой понимается в том числе (метонимически) и возделывавшие ее поколения, то есть родовое, генетическое прошлое, а также, в виде конкретного места, и прошлое выросшей из него конкретной личности) действительно является первой и буквальной задачей, обусловливающей «возвращение». «Я сам… / С тяжелым заступом явлюся в огороде; / Приду с тобой садить коренья и цветы. / О подвиг благостный! не тщетен будешь ты: / Богиня пажитей признательней фортуны! / Для них безвестный век, для них свирель и струны; / Они доступны всем и мне за легкий труд / Плодами сочными обильно воздадут…» Подвиг «возделывания земли» (причем в самом буквальном, а не каком-либо переносном значении) является, пожалуй, единственным для него по-настоящему «нетщетным», при том что, очевидно, «подвиг» этот, которому приносятся в жертву и/или посвящаются и «безвестный» век, и «струны», не имеет ничего примечательного, ничего достойного запечатления в истории, ничего, выделяющего его субъекта из общей линии возделывающих и собирающих. Пажити, как сказано (и об этом сказано отдельно), «доступны всем», и в том, как следует думать, и заключается их достоинство. В чем же заключается тогда уникальная задача субъекта, в чем его смысл и личностный вклад в этот мир, вклад единственно «нетщетный»? Следуя логике текста – исключительно в очередном «посеве леса», в само́м движении засеивающей руки, связывающей его нерасторжимыми, хотя и внесловесными и «нелетописными» узами со всем, что по праву можно назвать его «прошлым» и «будущим» (уже не имеющем, правда, отношения к однозначно «прошедшему» или «грядущему», так как, где нет противопоставления или выделения, нет и разницы во времени) – со всеми, кто совершал это действие до него и будет совершать после: «А там… / В весенний ясный день я сам, друзья мои, / У брега насажу лесок уединенный… В тени их отдохнет мой правнук молодой; / Там дружба некогда сокроет пепел мой...» .
Итак, лишь отдающий себя природному ходу неизменно сменяющегося времени и встраивающий в его преемственность свою субъектность, отличную от других так же, как одна сеющая рука отлична от другой, – лишь он (в отличие от «молодого любовника кровавых битв», учащегося «науке размерять окопы боевые»; кроме ее буквального значения эта фраза интересна еще и уделением внимания самому процессу «разметки», «размерения». Окопы (жатва смерти) противопоставляются браздам так же, как размерение жизненного пространства – участию в едином процессе возделывания единого, «доступного всем», поля – прим. автора) способен выйти из мнимой борьбы временного и вечного, культурного и природного. И потому «бесплодный» без того «Геликон» культурного производства может иметь свое основание и свой целевой фон лишь в этой первичной «культуре», может обрести плодовитость, лишь продолжая или возвращая к «посеву», то есть в определенном смысле отрицая себя, ради соприкосновения физического и культурного «тела» с всеобщим временем природы, временем (а значит, и вечностью) как таковым – соприкосновения по ту и по эту сторону любых слов.
Приобщение к «земле» (под которой понимается в том числе (метонимически) и возделывавшие ее поколения, то есть родовое, генетическое прошлое, а также, в виде конкретного места, и прошлое выросшей из него конкретной личности) действительно является первой и буквальной задачей, обусловливающей «возвращение». «Я сам… / С тяжелым заступом явлюся в огороде; / Приду с тобой садить коренья и цветы. / О подвиг благостный! не тщетен будешь ты: / Богиня пажитей признательней фортуны! / Для них безвестный век, для них свирель и струны; / Они доступны всем и мне за легкий труд / Плодами сочными обильно воздадут…» Подвиг «возделывания земли» (причем в самом буквальном, а не каком-либо переносном значении) является, пожалуй, единственным для него по-настоящему «нетщетным», при том что, очевидно, «подвиг» этот, которому приносятся в жертву и/или посвящаются и «безвестный» век, и «струны», не имеет ничего примечательного, ничего достойного запечатления в истории, ничего, выделяющего его субъекта из общей линии возделывающих и собирающих. Пажити, как сказано (и об этом сказано отдельно), «доступны всем», и в том, как следует думать, и заключается их достоинство. В чем же заключается тогда уникальная задача субъекта, в чем его смысл и личностный вклад в этот мир, вклад единственно «нетщетный»? Следуя логике текста – исключительно в очередном «посеве леса», в само́м движении засеивающей руки, связывающей его нерасторжимыми, хотя и внесловесными и «нелетописными» узами со всем, что по праву можно назвать его «прошлым» и «будущим» (уже не имеющем, правда, отношения к однозначно «прошедшему» или «грядущему», так как, где нет противопоставления или выделения, нет и разницы во времени) – со всеми, кто совершал это действие до него и будет совершать после: «А там… / В весенний ясный день я сам, друзья мои, / У брега насажу лесок уединенный… В тени их отдохнет мой правнук молодой; / Там дружба некогда сокроет пепел мой...» .
Итак, лишь отдающий себя природному ходу неизменно сменяющегося времени и встраивающий в его преемственность свою субъектность, отличную от других так же, как одна сеющая рука отлична от другой, – лишь он (в отличие от «молодого любовника кровавых битв», учащегося «науке размерять окопы боевые»; кроме ее буквального значения эта фраза интересна еще и уделением внимания самому процессу «разметки», «размерения». Окопы (жатва смерти) противопоставляются браздам так же, как размерение жизненного пространства – участию в едином процессе возделывания единого, «доступного всем», поля – прим. автора) способен выйти из мнимой борьбы временного и вечного, культурного и природного. И потому «бесплодный» без того «Геликон» культурного производства может иметь свое основание и свой целевой фон лишь в этой первичной «культуре», может обрести плодовитость, лишь продолжая или возвращая к «посеву», то есть в определенном смысле отрицая себя, ради соприкосновения физического и культурного «тела» с всеобщим временем природы, временем (а значит, и вечностью) как таковым – соприкосновения по ту и по эту сторону любых слов.
Раз уж есть дистанция, то должно быть и расставание, удаление, отъезд. Как всегда, здесь есть и более однозначный полюс – полюс умертвляющей своим холодом потери, полюс рассуществления, развоплощения, разуверения, бесчувствия: «Так нежный друг, в бесчувственном забвенье / Еще глядит на зыби синих волн, / На влажный путь, где в темном отдаленье / Давно исчез отбывший дружний челн».
Но есть и другой – схватывающий (или пытающийся схватить) и расставание, и встречу, и потерю, и обретение: «Нам судьба велит разлуку (имеется в виду разлука между живыми и мертвыми – прим. автора)… / Как же быть, друзья? – вздохнуть, / На распутье сжать мне руку / И сказать: счастливый путь!» Рукопожатие оказывается узой столь же непрочной и мгновенной (мгновенно даваемой и разрываемой), сколь и долговечной и пребывающей поверх возможных границ: так, что «раздвигающаяся могила» в этом тексте вдруг оказывается не больше и не меньше, чем «новосельем». Данное в момент (предсмертного) расставания рукопожатие одновременно является как знаком прощания, так и обещанием скорой встречи (потому и все прочие «знаки» оказываются неуместны и излишни). Встреча неизбежна – и потому пожатие рук являет собой аналогию жесту «посева леса».
Отъезд, как известно, бывает и из мест менее приятных, чем общество любимых и друзей. Однако именно преодоление (если это слово здесь уместно) глубинного различия между тем и другим и позволяет воспринимать любой «отъезд» как возможность и обретение. С одной стороны, Финляндия помогла ему обозначить то отношение к внешнему миру, которое частично, как один из самоценных полюсов, можно назвать константой его позиции: «И воды чуждые шумят у ног моих / И на ногах моих оковы». С другой же, там, где, подобно белой ночи, полюса начинали влиять друг на друга и перетягивать на себя чужие значения, это место, будучи определяющим и судьбообразующим, оказывалось для него своеобразно «блаженным», пограничным и безвременно плодотворным.
С первого взгляда нет места (и речь не идет, разумеется, о чем-либо конкретно географическом или вообще о каком-либо конкретном месте в пространстве) более изнемождающего жизнь и обессиливающего природу, чем это. Сложно представить себе фразу более сухую и точную в своей констатации неизбывности омертвения, чем: «...Печальная страна, / Где, дочь любимая природы, / Безжизненна весна». И дальше – столь же сухую и точную в констатации непреодолимости и черноте отчаяния: «Где солнце нехотя сияет, / Где сосен вечный шум, / И моря рев, и все питает / Безумье мрачных дум».
Однако безумие все же не наступает – при том, что он, пожалуй, один из немногих, кто вообще мог бы написать такие строки (и речь идет, разумеется, не о их «содержании», а о самих словах и той глубине, которую образует их взаимодействие). И все именно потому, что посреди этого конкретно-воображаемого ландшафта он осознает и являет себя (позволяет себе явиться) предельно не защищенным ничем внешним по отношению к себе и собственной «душе» («но все душой пиит»). Не наступает оно к тому же, по всей видимости, еще и оттого, что сам ландшафт, несущий уныние и безумие, не получает с его стороны явного сопротивления; не то чтобы он ему отдался или признал себя побежденным, но вместо того, чтобы противопоставить свой голос его «шуму», он начинает говорить «изнутри него»: надевая (как и в случае со смертью) на себя его кожу и смотря его глазами и благодаря этому видя его общую со всем прочим условность и относительность (не изменяя «ни музам, ни себе»). Казалось бы, счастливый и долгожданный отъезд из «печальной страны» потому оказывается проводником и связкой между «страной родной» и «краем изгнания», который, не вытесняясь, останется столь же актуальным, каким и был во время физического «присутствия»; так что «пустынная страна» будет, как ни абсурдно, лишь плодотворно вспоминаться «с тайным сладострастьем» – и не столько в связи с когда-то тогда и там одержанной «победой», сколько в связи с «равнением» себя по мере и характеру пространства, но без «измены» («сходить с ума», как известно, «не надо», а надо – «держать равнение на смерть» – прим. автора).
Но есть и другой – схватывающий (или пытающийся схватить) и расставание, и встречу, и потерю, и обретение: «Нам судьба велит разлуку (имеется в виду разлука между живыми и мертвыми – прим. автора)… / Как же быть, друзья? – вздохнуть, / На распутье сжать мне руку / И сказать: счастливый путь!» Рукопожатие оказывается узой столь же непрочной и мгновенной (мгновенно даваемой и разрываемой), сколь и долговечной и пребывающей поверх возможных границ: так, что «раздвигающаяся могила» в этом тексте вдруг оказывается не больше и не меньше, чем «новосельем». Данное в момент (предсмертного) расставания рукопожатие одновременно является как знаком прощания, так и обещанием скорой встречи (потому и все прочие «знаки» оказываются неуместны и излишни). Встреча неизбежна – и потому пожатие рук являет собой аналогию жесту «посева леса».
Отъезд, как известно, бывает и из мест менее приятных, чем общество любимых и друзей. Однако именно преодоление (если это слово здесь уместно) глубинного различия между тем и другим и позволяет воспринимать любой «отъезд» как возможность и обретение. С одной стороны, Финляндия помогла ему обозначить то отношение к внешнему миру, которое частично, как один из самоценных полюсов, можно назвать константой его позиции: «И воды чуждые шумят у ног моих / И на ногах моих оковы». С другой же, там, где, подобно белой ночи, полюса начинали влиять друг на друга и перетягивать на себя чужие значения, это место, будучи определяющим и судьбообразующим, оказывалось для него своеобразно «блаженным», пограничным и безвременно плодотворным.
С первого взгляда нет места (и речь не идет, разумеется, о чем-либо конкретно географическом или вообще о каком-либо конкретном месте в пространстве) более изнемождающего жизнь и обессиливающего природу, чем это. Сложно представить себе фразу более сухую и точную в своей констатации неизбывности омертвения, чем: «...Печальная страна, / Где, дочь любимая природы, / Безжизненна весна». И дальше – столь же сухую и точную в констатации непреодолимости и черноте отчаяния: «Где солнце нехотя сияет, / Где сосен вечный шум, / И моря рев, и все питает / Безумье мрачных дум».
Однако безумие все же не наступает – при том, что он, пожалуй, один из немногих, кто вообще мог бы написать такие строки (и речь идет, разумеется, не о их «содержании», а о самих словах и той глубине, которую образует их взаимодействие). И все именно потому, что посреди этого конкретно-воображаемого ландшафта он осознает и являет себя (позволяет себе явиться) предельно не защищенным ничем внешним по отношению к себе и собственной «душе» («но все душой пиит»). Не наступает оно к тому же, по всей видимости, еще и оттого, что сам ландшафт, несущий уныние и безумие, не получает с его стороны явного сопротивления; не то чтобы он ему отдался или признал себя побежденным, но вместо того, чтобы противопоставить свой голос его «шуму», он начинает говорить «изнутри него»: надевая (как и в случае со смертью) на себя его кожу и смотря его глазами и благодаря этому видя его общую со всем прочим условность и относительность (не изменяя «ни музам, ни себе»). Казалось бы, счастливый и долгожданный отъезд из «печальной страны» потому оказывается проводником и связкой между «страной родной» и «краем изгнания», который, не вытесняясь, останется столь же актуальным, каким и был во время физического «присутствия»; так что «пустынная страна» будет, как ни абсурдно, лишь плодотворно вспоминаться «с тайным сладострастьем» – и не столько в связи с когда-то тогда и там одержанной «победой», сколько в связи с «равнением» себя по мере и характеру пространства, но без «измены» («сходить с ума», как известно, «не надо», а надо – «держать равнение на смерть» – прим. автора).
Вернемся еще раз, прежде чем «пойти дальше», к памяти и ее «телу», материи пространства времени. Этот набор слов выбран здесь не случайно, если задуматься о том, что, собственно, представляет собой для нас память. В жизни мы сталкиваемся с теми или иными событиями, ситуациями, сценами, которые, несмотря на многообразие проходящего через органы чувств, мы воспринимаем в целостности. Более того, память, по существу, состоит именно из сцен, то есть фрагментов, выцепленных (в основном по неясной причине) из общего потока восприятия и отложившихся в сознании в их осмысленности, в наличии в них внутреннего смысла, даже если этот смысл невозможно внятно артикулировать. Дело, повторим, не в том, что в памяти в виде сцен откладываются события или моменты важные и значительные – в основном совсем наоборот, если о важности и значительности судить с точки зрения цепи последующих событий. Все эти сцены, безусловно, важны (иначе они бы и не отложились), но важны не чем иным, как наличием в них внутреннего смысла, того, что сознание (в его целостности, включая интуицию и подсознание) тогда-то схватило как фрагмент осмысленного целого, как нечто, что делает осмысленной жизнь как таковую, нечто, ради и благодаря чему мы и живы.
Если в этом ключе и при подобном понимании взглянуть на соотношение памяти и материи, памяти и реальности, то их отношения приобретут, возможно, неожиданный оборот. Время, как известно, отличается непрерывной изменчивостью, в его потоке, взятом самом по себе, нет ничего выделенного или имеющего большее или меньшее значение. Память в таком случае должна была бы быть связанной с аналитической, дискретной природой нашего сознания, членящего воспринимаемое на отрезки, имеющие разное значение исключительно для нашей личности. В этом смысле лучшим внешним, техническим агентом памяти был бы фотоаппарат, как раз и вычленяющий искусственным и всегда произвольным образом из потока времени различные театрализованные сцены, как если бы материя была не более, чем не знающим о собственной природе и каждый раз заново актуализируемым театром.
Однако природа естественной памяти, памяти сознания, не контролирующего то, что становится его памятью, устроена иначе, можно сказать, прямо противоположным образом. Обращаясь к воспоминаниям естественной памяти, к ее неожиданным, импровизированным сценам, мы никогда не воспринимаем ее образы (тысячу раз к тому же перестраивающиеся и обретающие все новые и новые конфигурации в сновидениях) как нечто, однозначно противопоставленное времени, может быть, вообще как нечто, из времени выделенное. Все дело в том, что в любом воспоминании сознание, внимательно и чутко вслушивающееся в его образ, всегда ощущает некоторый избыток и нехватку одновременно, нечто, что, с одной стороны, превышает то, что рациональная часть сознания смогла воспринять в тот момент (и что, таким образом, осознается лишь тогда, когда налично его уже нет), но что было воспринято интуитивно, с другой стороны, то, что может быть воспринято лишь внутри воспоминания, но никогда (или почти никогда, в редчайшие моменты «вечности во времени») – в моменте, внутри разговора, события, движения, действия, обстановки. Это постоянное «третье», на которое указывает любое воспоминание и которое придает присущее ему ощущение внутреннего смысла, и есть, пожалуй, приобщенность момента времени (пусть эта приобщенность и становится явной нам только в том, что и становится воспоминанием) к сверхвременному, к тому, что, совершившись тогда-то и там-то, является укорененным и наделенным смыслом, который ведет неотчуждаемую жизнь поверх любых изменений – подобно бесконечно малой точке, всегда незаметной в моменте, но делающей момент тем, что он есть. Таким образом, память схватывает именно то, что можно было бы назвать конфигурациями, созвездиями времени, когда сменяющиеся фрагменты материи складываются вокруг невыразимой точки смысла так, что сам смысл оказывается поверх любых изменений. И дело, повторим, не в том, что сознание наделяет неким артикулируемым смыслом или значением то или иное событие, а в том, что само происходящее оформляется вокруг схватываемого смысла совершенно независимо от интенциональной работы восприятия – так, как если бы мы чувствовали, что за кулисами отложившейся сцены и находится то, что заставляет нас возвращаться к ней снова и снова.
Если в этом ключе и при подобном понимании взглянуть на соотношение памяти и материи, памяти и реальности, то их отношения приобретут, возможно, неожиданный оборот. Время, как известно, отличается непрерывной изменчивостью, в его потоке, взятом самом по себе, нет ничего выделенного или имеющего большее или меньшее значение. Память в таком случае должна была бы быть связанной с аналитической, дискретной природой нашего сознания, членящего воспринимаемое на отрезки, имеющие разное значение исключительно для нашей личности. В этом смысле лучшим внешним, техническим агентом памяти был бы фотоаппарат, как раз и вычленяющий искусственным и всегда произвольным образом из потока времени различные театрализованные сцены, как если бы материя была не более, чем не знающим о собственной природе и каждый раз заново актуализируемым театром.
Однако природа естественной памяти, памяти сознания, не контролирующего то, что становится его памятью, устроена иначе, можно сказать, прямо противоположным образом. Обращаясь к воспоминаниям естественной памяти, к ее неожиданным, импровизированным сценам, мы никогда не воспринимаем ее образы (тысячу раз к тому же перестраивающиеся и обретающие все новые и новые конфигурации в сновидениях) как нечто, однозначно противопоставленное времени, может быть, вообще как нечто, из времени выделенное. Все дело в том, что в любом воспоминании сознание, внимательно и чутко вслушивающееся в его образ, всегда ощущает некоторый избыток и нехватку одновременно, нечто, что, с одной стороны, превышает то, что рациональная часть сознания смогла воспринять в тот момент (и что, таким образом, осознается лишь тогда, когда налично его уже нет), но что было воспринято интуитивно, с другой стороны, то, что может быть воспринято лишь внутри воспоминания, но никогда (или почти никогда, в редчайшие моменты «вечности во времени») – в моменте, внутри разговора, события, движения, действия, обстановки. Это постоянное «третье», на которое указывает любое воспоминание и которое придает присущее ему ощущение внутреннего смысла, и есть, пожалуй, приобщенность момента времени (пусть эта приобщенность и становится явной нам только в том, что и становится воспоминанием) к сверхвременному, к тому, что, совершившись тогда-то и там-то, является укорененным и наделенным смыслом, который ведет неотчуждаемую жизнь поверх любых изменений – подобно бесконечно малой точке, всегда незаметной в моменте, но делающей момент тем, что он есть. Таким образом, память схватывает именно то, что можно было бы назвать конфигурациями, созвездиями времени, когда сменяющиеся фрагменты материи складываются вокруг невыразимой точки смысла так, что сам смысл оказывается поверх любых изменений. И дело, повторим, не в том, что сознание наделяет неким артикулируемым смыслом или значением то или иное событие, а в том, что само происходящее оформляется вокруг схватываемого смысла совершенно независимо от интенциональной работы восприятия – так, как если бы мы чувствовали, что за кулисами отложившейся сцены и находится то, что заставляет нас возвращаться к ней снова и снова.
Прежде чем перейти к последнему и заключительному (тому, дальше чего пойти уже, наверное, невозможно), представим вкратце (для полноты портрета) различные вариации на тему всего того, о чем уже говорилось.
Элегик при любом времени года – и даже весной – чувствует себя на задворках общего пира, в раздоре, будучи смертен, то есть включен в линейный ход старения, с общим круговоротом природного времени и его возвратности. Это всегда позиция «мимо», «не вполне», позиция на краю мгновенной смерти: «И мигом в сердце кровь остынет / И дом подземный скроет нас!» Кровь-то остынет, но скроет, как ни банально, именно «дом» – место, где можно при желании отпраздновать и «новоселье».
Ход времени явен ему во всем – и он с дотошной аналитичностью разбирает то, как свежесть «розы красоты» и ее чары неизбежно «беднеют»; но он же видит возможность неискусственной красоты, время останавливающей («Глядит – и путь не продолжает!»). Между растворением в сиюминутном и полным бесчувствием он прокладывает путь, не продолжающийся, но неподвижно пролегающий в пространстве тишины и удивления. Той самой увядшей красоте он ставит в вину прежде всего то, что она, отдав свою жизнь очарованию и прельщению, утратила доступ к «тишине»: «И где для каждого (sic) доступна тишина / Страдальца ждет одно волненье» (страдальца, то есть, согласно корню, того, кто подвержен влиянию страсти). Любовь как очарование, как страсть получает такой же отказ со стороны ищущего «отраду иную», как и «Геликон» («Я не хочу притворным исступленьем / Обманывать ни юных дев, ни муз»). От любого «притворства», от любой лжи спасает, как мы уже видели, именно пространство тишины («Очарованье красоты / В тебе не страшно нам… / И при тебе душа полна / Священной тишиной»), именно дистанция, связанная с любованием и удивлением, свободная от страсти обладания: «И удивление, по счастью, / От стрел любви меня хранит»; «Любуюсь вами, как цветком, / И счастлив тем, что вы прекрасны».
Итак, «безропотно сойти в обитель ночи», но, «любя минувшее», «утех забвеньем» не покупать «забвенья мук», иначе говоря, приняв безнадежность, «глядеть на поприще с рубежа» и «скромно кланяться прохожим». Все благородно, все чинно, как и в отношениях с мертвецами, так и в отношениях с читателем: «дар убог», «голос негромок», единственная возможность связи, единственная «литература» – все та же дружба, «сношение душ».
Однако что делать и как себя поставить, когда смерть не позволяет сохранять по отношению к себе желаемую дистанцию? Ведь апокалиптичность мироощущения преследует его повсюду: без нее не обходятся даже и «стихи в альбом» («Альбом походит на кладбище...»). Разрушение дистанции, с одной стороны, страшно, с другой – желанно. Да и сама по себе дистанция, как уже было показано, существует для того, чтобы оппозиции могли войти в свободное взаимодействие. Поэтому, когда в руках оказывается еще не до конца разложившаяся голова усопшего друга, попавшая в них из разоренной могилы, «разрытого дома», говорящий начинает одновременно желать непосредственной трансгрессии любых границ («Когда б она цветущим, пылким нам / И каждый час грозимым смертным часом / Все истины, известные гробам, / Произнесла своим бесстрастным гласом») и радоваться тому, что она якобы невозможна: «Живи живой, спокойно тлей мертвец!» «Когда б она… / Все истины, известные гробам, / Произнесла...» – зададимся вопросом, нет ли здесь описания собственной его, неизменной «музы», способной «низойти в разрытый дом» и передать «цветущим» слова, говоримые «как бы» с той стороны.
Элегик при любом времени года – и даже весной – чувствует себя на задворках общего пира, в раздоре, будучи смертен, то есть включен в линейный ход старения, с общим круговоротом природного времени и его возвратности. Это всегда позиция «мимо», «не вполне», позиция на краю мгновенной смерти: «И мигом в сердце кровь остынет / И дом подземный скроет нас!» Кровь-то остынет, но скроет, как ни банально, именно «дом» – место, где можно при желании отпраздновать и «новоселье».
Ход времени явен ему во всем – и он с дотошной аналитичностью разбирает то, как свежесть «розы красоты» и ее чары неизбежно «беднеют»; но он же видит возможность неискусственной красоты, время останавливающей («Глядит – и путь не продолжает!»). Между растворением в сиюминутном и полным бесчувствием он прокладывает путь, не продолжающийся, но неподвижно пролегающий в пространстве тишины и удивления. Той самой увядшей красоте он ставит в вину прежде всего то, что она, отдав свою жизнь очарованию и прельщению, утратила доступ к «тишине»: «И где для каждого (sic) доступна тишина / Страдальца ждет одно волненье» (страдальца, то есть, согласно корню, того, кто подвержен влиянию страсти). Любовь как очарование, как страсть получает такой же отказ со стороны ищущего «отраду иную», как и «Геликон» («Я не хочу притворным исступленьем / Обманывать ни юных дев, ни муз»). От любого «притворства», от любой лжи спасает, как мы уже видели, именно пространство тишины («Очарованье красоты / В тебе не страшно нам… / И при тебе душа полна / Священной тишиной»), именно дистанция, связанная с любованием и удивлением, свободная от страсти обладания: «И удивление, по счастью, / От стрел любви меня хранит»; «Любуюсь вами, как цветком, / И счастлив тем, что вы прекрасны».
Итак, «безропотно сойти в обитель ночи», но, «любя минувшее», «утех забвеньем» не покупать «забвенья мук», иначе говоря, приняв безнадежность, «глядеть на поприще с рубежа» и «скромно кланяться прохожим». Все благородно, все чинно, как и в отношениях с мертвецами, так и в отношениях с читателем: «дар убог», «голос негромок», единственная возможность связи, единственная «литература» – все та же дружба, «сношение душ».
Однако что делать и как себя поставить, когда смерть не позволяет сохранять по отношению к себе желаемую дистанцию? Ведь апокалиптичность мироощущения преследует его повсюду: без нее не обходятся даже и «стихи в альбом» («Альбом походит на кладбище...»). Разрушение дистанции, с одной стороны, страшно, с другой – желанно. Да и сама по себе дистанция, как уже было показано, существует для того, чтобы оппозиции могли войти в свободное взаимодействие. Поэтому, когда в руках оказывается еще не до конца разложившаяся голова усопшего друга, попавшая в них из разоренной могилы, «разрытого дома», говорящий начинает одновременно желать непосредственной трансгрессии любых границ («Когда б она цветущим, пылким нам / И каждый час грозимым смертным часом / Все истины, известные гробам, / Произнесла своим бесстрастным гласом») и радоваться тому, что она якобы невозможна: «Живи живой, спокойно тлей мертвец!» «Когда б она… / Все истины, известные гробам, / Произнесла...» – зададимся вопросом, нет ли здесь описания собственной его, неизменной «музы», способной «низойти в разрытый дом» и передать «цветущим» слова, говоримые «как бы» с той стороны.
...Именно в моменты разрыва и понимаешь, что же на самом деле определяет твое, любое, «я», что дает ему значение, что дает ему его неразличимое, неотличимое имя. И ответ здесь очевиден настолько же, насколько и неуютен, поскольку там, где наше самостояние постоянно зависит от наличия Другого, это самостояние дающего и рождающего, там «я» может существовать только в жесте постоянной, ежесекундной обращенности и направленности, то есть подвешенности, неопределенности, нехватки, то есть стремления к хрупкой и обещанной в каждой встрече полноте, обретаемой как «я», так и другим. Эта сущность любого «я» ощущается тем яснее и отчетливей, чем честнее человек относится к собственной пустоте, чем меньше пытается заполнить ее собственным говорливым однообразием. «Как чистая роса живит своей прохладой / Среди нагих степей...» – тем отчетливее и резче изнутри наготы и оставленности оказывается нехватка Другого, чье присутствие равно присутствию самой жизни, единственной возможной связи с ней. И тем характернее ни с чем не рифмующееся, заканчивающее строфу «ты» («Сестре»), выделенное и выбивающееся, останавливающее весь текст в тихом жесте чистой обращенности.
Само существование «я», таким образом, невозможно для него без «ты». Декартовское «Я мыслю» он без сомнения и прямым текстом заменяет на «Ты любишь» («“Я мыслю, – пишет он, – итак, / Я, несомненно, существую”. / Нет! любишь ты, и потому / Ты существуешь...»). И в этом стоит видеть не столько «романтическое» предпочтение чувств разуму, сколько непрерывную озабоченность возможностью неразрывной связи, определяющей и утверждающей «я» по обе стороны горизонта жизни.
Перед лицом подобной связи может переосознаваться все – в том числе и слово, теряя свою самость, свое значение, превращаясь все в тот же жест, в символ (в первичном значении этого слова, то есть разбитой надвое дощечки, соединив которую ее владельцы могут узнать друг друга): «Чуждо явного значенья, / Для меня оно символ / Чувств, которых выраженья / В языках я не нашел». И только такое «темное и ничтожное» (по-лермонтовски) слово, «неведомое суесловью», «убогое», «негромкое», невыделенное, неявное, и может выжить там, «в том мире, за могилой / Где нет образов, где нет / Для узнанья, друг мой милый, / Здешних чувственных примет...», только в ответ на него, узнав в нем сам жест призыва, в его первичной знаковости, душа другого может там «полететь навстречу». «Прозванье» здесь есть нечто, устанавливающее связь «вне чувственных примет», как и весь посвященный ему текст, – не описание и не сообщение, а напоминание и указание, обретающее свой смысл лишь в свете перехода границы.
Само существование «я», таким образом, невозможно для него без «ты». Декартовское «Я мыслю» он без сомнения и прямым текстом заменяет на «Ты любишь» («“Я мыслю, – пишет он, – итак, / Я, несомненно, существую”. / Нет! любишь ты, и потому / Ты существуешь...»). И в этом стоит видеть не столько «романтическое» предпочтение чувств разуму, сколько непрерывную озабоченность возможностью неразрывной связи, определяющей и утверждающей «я» по обе стороны горизонта жизни.
Перед лицом подобной связи может переосознаваться все – в том числе и слово, теряя свою самость, свое значение, превращаясь все в тот же жест, в символ (в первичном значении этого слова, то есть разбитой надвое дощечки, соединив которую ее владельцы могут узнать друг друга): «Чуждо явного значенья, / Для меня оно символ / Чувств, которых выраженья / В языках я не нашел». И только такое «темное и ничтожное» (по-лермонтовски) слово, «неведомое суесловью», «убогое», «негромкое», невыделенное, неявное, и может выжить там, «в том мире, за могилой / Где нет образов, где нет / Для узнанья, друг мой милый, / Здешних чувственных примет...», только в ответ на него, узнав в нем сам жест призыва, в его первичной знаковости, душа другого может там «полететь навстречу». «Прозванье» здесь есть нечто, устанавливающее связь «вне чувственных примет», как и весь посвященный ему текст, – не описание и не сообщение, а напоминание и указание, обретающее свой смысл лишь в свете перехода границы.
Перейдем теперь вместе с ним, как речку, к которой мы все это время шли, отбросив жребий любого призвания, к той высоте, где и обретает свой дом его, и именно его, не-общность, где самость, теряя подпорки, обретает саму себя.
Иначе говоря, войдем, наконец, к порогам его Элизия. И войдем, само собой, не иначе, как через сходу, как ключ, вручаемое отрицание: «Не славь...» При входе перед нами сразу же встает не иначе, как два Элизия: тот, что славит Орфей «обманутый» (и это здесь – его сущностный эпитет), и тот, что существует «в памяти» и забвению не подвержен. Исходя из всего, о чем мы вели речь выше, здесь несложно увидеть все тот же парадокс, но сжатый до предела и резкости антиномии: «Элизий» слов, «Элизий» Орфея, «Элизий» словесной утопии как утешение того, кто хотел да не смог заколдовать мир мертвых, вывести умершее на свет песней, отделить одно от другого, кто обманулся, потому и ищет покоя там, в хвалимых полях блаженных, отпивших от реки забвения, – все это меркнет перед самым хрупким, что можно представить, и потому – самым верным и неизменным, перед Элизием естественной памяти – иначе говоря, Элизием самого́ течения жизни. Элизий, «не кропимый водой забвения», – оксюморон, так как где видели мы блаженство, обитающее в вечном настоящем памяти, в незабвенных чертогах преходящего времени? Итак, он просто-напросто без лишних слов утверждает вечность собственного опыта, незабвенность того, что некогда было, а значит, и есть, и «будет» («есть» всегда, иначе говоря). То, что может выглядеть как утопия памяти, подменяющая утопию слов или посмертного блаженства, на деле приобретает тонкие черты простой и очевидной, несомненной реальности, так что дихотомия времени и вечности здесь окончательно преодолевается, «снимается» (как и фигура Орфея, желавшего вернуть к жизни из нее ушедшее). Вечность памяти, вечность временного, вечность безвозвратного. И речь здесь идет не о субъективной сохранности образов в памяти, а скорее именно об объективном «предикате существования», который обретается лишь безвозвратно утерянным, не удерживаемым в чьих-либо глазах или руках.
Дихотомия эта «снимается» и чисто лексически: за счет соединения «цветения» и «смерти», «смерти» и «сохранности», «смерти» и «чувства» (мир цветущий – умерших тени – привычки жизни сохраняют – и чувств ее не лишены); впрочем, наиболее явно это соединение-снятие происходит уже в сочетании «Элизий в памяти моей», «мой Элизий», означающем вечность того, что пережил конкретно я как субъект времени и истории.
Итак, отступая от попытки Орфея искусственно вернуть умершее, как и от блаженной вечности, противопоставленной памяти и прошедшему, он выбирает самый простой, самый ненадежный, самый «банальный» способ сообщения с вечностью – наличную память, опыт, отпечатавшийся в душе и преображенный ей естественным образом, без претензий субъекта на утверждение существования вечности – кроме той, что существует «сама по себе», сходясь с памятью и временем, обретаясь в них, в том, что действительно было: в жизненном и «цветущем», «дружеском» в нем – или не существуя вовсе.
Иначе говоря, войдем, наконец, к порогам его Элизия. И войдем, само собой, не иначе, как через сходу, как ключ, вручаемое отрицание: «Не славь...» При входе перед нами сразу же встает не иначе, как два Элизия: тот, что славит Орфей «обманутый» (и это здесь – его сущностный эпитет), и тот, что существует «в памяти» и забвению не подвержен. Исходя из всего, о чем мы вели речь выше, здесь несложно увидеть все тот же парадокс, но сжатый до предела и резкости антиномии: «Элизий» слов, «Элизий» Орфея, «Элизий» словесной утопии как утешение того, кто хотел да не смог заколдовать мир мертвых, вывести умершее на свет песней, отделить одно от другого, кто обманулся, потому и ищет покоя там, в хвалимых полях блаженных, отпивших от реки забвения, – все это меркнет перед самым хрупким, что можно представить, и потому – самым верным и неизменным, перед Элизием естественной памяти – иначе говоря, Элизием самого́ течения жизни. Элизий, «не кропимый водой забвения», – оксюморон, так как где видели мы блаженство, обитающее в вечном настоящем памяти, в незабвенных чертогах преходящего времени? Итак, он просто-напросто без лишних слов утверждает вечность собственного опыта, незабвенность того, что некогда было, а значит, и есть, и «будет» («есть» всегда, иначе говоря). То, что может выглядеть как утопия памяти, подменяющая утопию слов или посмертного блаженства, на деле приобретает тонкие черты простой и очевидной, несомненной реальности, так что дихотомия времени и вечности здесь окончательно преодолевается, «снимается» (как и фигура Орфея, желавшего вернуть к жизни из нее ушедшее). Вечность памяти, вечность временного, вечность безвозвратного. И речь здесь идет не о субъективной сохранности образов в памяти, а скорее именно об объективном «предикате существования», который обретается лишь безвозвратно утерянным, не удерживаемым в чьих-либо глазах или руках.
Дихотомия эта «снимается» и чисто лексически: за счет соединения «цветения» и «смерти», «смерти» и «сохранности», «смерти» и «чувства» (мир цветущий – умерших тени – привычки жизни сохраняют – и чувств ее не лишены); впрочем, наиболее явно это соединение-снятие происходит уже в сочетании «Элизий в памяти моей», «мой Элизий», означающем вечность того, что пережил конкретно я как субъект времени и истории.
Итак, отступая от попытки Орфея искусственно вернуть умершее, как и от блаженной вечности, противопоставленной памяти и прошедшему, он выбирает самый простой, самый ненадежный, самый «банальный» способ сообщения с вечностью – наличную память, опыт, отпечатавшийся в душе и преображенный ей естественным образом, без претензий субъекта на утверждение существования вечности – кроме той, что существует «сама по себе», сходясь с памятью и временем, обретаясь в них, в том, что действительно было: в жизненном и «цветущем», «дружеском» в нем – или не существуя вовсе.
Бывает, что «воспоминание живое», в котором «почиющие под дерном гробовым» почиют «легко», а печаль является лишь «сладкой печалью любви», где «слезы отрадны», оканчивается не чем иным, как проступающей, постоянно подступающей «холодной, суровой тоской», «сухой скорбью разуверенья» (прочтите эти две строчки вслух, как они следуют в тексте, – в этом наборе слов нашла место сухость бесслезной скорби как она есть («Не то холодная, суровая тоска / Сухая скорбь разуверенья» («Есть милая страна, есть угол на земле...») – прим. автора). Но есть и другой исход.
«Я посетил тебя, пленительная сень...». Вновь «я посетил», вновь «я» вернулся туда, где все изменилось, где сам мой возврат является самым явным и наглядным доказательством движения времени. Весь текст, если смотреть на него композиционно, являет собой ряд переходов от ожидаемого к действительному, иначе говоря, сменяющийся ряд ненахождений. «Я» посещает самое сокровенное для своей личности место «не в дни веселые живительного мая», а именно в момент апогея внешнего «запустения», когда «с прохладой резкою» в лицо дышит «запах увяданья». Но это не отворачивает пришедшего, так как он ищет «не весеннего убранства», не явной для глаз вечности и сменяемости времен природы, а «воспоминанья». Для поиска последних, покоящихся больше внутри, чем снаружи, осенняя пустынность могла бы скорее сыграть на руку. Но – «вотще», так как внятные следы, места и предметы, когда-то связанные с теми или иными событиями и способные воскресить их в памяти, исчезли, как и «бережно взлелеянные цветы» природы. «И легкая тропа исчезла предо мною. / Ни в чем знакомого мой взор не обретал!» Запустение, таким образом, охватило собой все внешнее, все знакомое взору, будь то природа или объекты, когда-то созданные в ней рукой «опытного художника», человека.
Воспоминанию, таким образом, не на чем приземлиться, не от чего оттолкнуться, нечем питаться, негде найти «вход» для сладкого переноса в прошлое, везде его ждет неудача и разочарование. Но на этой (предельно) меланхолической ноте «прогулка», как ни странно, не заканчивается. С легкостью, удивительной для всего, что он видит вокруг (что особенно хорошо ощущается в середине ноября, когда эти заметки пишутся их автором – прим. автора), появляется фраза: «Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!» – и за ней следуют: «Еще прекрасней ты, заглохший Элизей, / И обаянием могучим / Исполнен для души моей».
Запустение всего внешнего открывает двери внутреннему, но там, где это внутреннее, сокровенное души может лишь вслушиваться, ощущать веяние, дыхание следа – присутствия, некогда бывшего, ощутимого даже и при отсутствии любых внешних следов (и даже тем более, чем меньше следов осталось) и обещающего встречу по ту сторону любой утраты (именно благодаря которой, в ее полноте, нерушимый и неотчуждаемый след присутствия и сохранился). Запустение освобождает посетившего свое прошлое от имен («Кто, безыменной неги жаден,...»), от привязанности к образам (так, что адресат, чье присутствие узнает и жаждет говорящий, называется лишь «тем», его образа «не сохранила память», но здесь, и именно здесь, там, где не осталось ничего, «здесь еще живет его доступный дух») – и именно это освобождение позволяет ощутить связь, осознанную как непосредственно оставленный другим человеком след в мире и в природе («посев леса»), продолженный во мне («он славить мне велит леса, долины, воды»), и увидеть в себе «наследника несрочной весны», и различить заложенное в здешнем мире обещание на будущую встречу. Этот текст самим своим движением наиболее наглядно показывает всю сложность его подходов к открывающейся ему вечности в их полноте: запустение (время) – посюсторонний Элизий (невыказываемый, неявный след, узнанный именно благодаря забвению, наследование во времени, единство опыта, укоренившегося в вечность пространства до неразличения) – встреча (вечность сверх-пространственная и сверх-временная, вечность возвращения неутрачиваемого).
Поля блаженных с пустыней бытия в едином «снятии».
«Я посетил тебя, пленительная сень...». Вновь «я посетил», вновь «я» вернулся туда, где все изменилось, где сам мой возврат является самым явным и наглядным доказательством движения времени. Весь текст, если смотреть на него композиционно, являет собой ряд переходов от ожидаемого к действительному, иначе говоря, сменяющийся ряд ненахождений. «Я» посещает самое сокровенное для своей личности место «не в дни веселые живительного мая», а именно в момент апогея внешнего «запустения», когда «с прохладой резкою» в лицо дышит «запах увяданья». Но это не отворачивает пришедшего, так как он ищет «не весеннего убранства», не явной для глаз вечности и сменяемости времен природы, а «воспоминанья». Для поиска последних, покоящихся больше внутри, чем снаружи, осенняя пустынность могла бы скорее сыграть на руку. Но – «вотще», так как внятные следы, места и предметы, когда-то связанные с теми или иными событиями и способные воскресить их в памяти, исчезли, как и «бережно взлелеянные цветы» природы. «И легкая тропа исчезла предо мною. / Ни в чем знакомого мой взор не обретал!» Запустение, таким образом, охватило собой все внешнее, все знакомое взору, будь то природа или объекты, когда-то созданные в ней рукой «опытного художника», человека.
Воспоминанию, таким образом, не на чем приземлиться, не от чего оттолкнуться, нечем питаться, негде найти «вход» для сладкого переноса в прошлое, везде его ждет неудача и разочарование. Но на этой (предельно) меланхолической ноте «прогулка», как ни странно, не заканчивается. С легкостью, удивительной для всего, что он видит вокруг (что особенно хорошо ощущается в середине ноября, когда эти заметки пишутся их автором – прим. автора), появляется фраза: «Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!» – и за ней следуют: «Еще прекрасней ты, заглохший Элизей, / И обаянием могучим / Исполнен для души моей».
Запустение всего внешнего открывает двери внутреннему, но там, где это внутреннее, сокровенное души может лишь вслушиваться, ощущать веяние, дыхание следа – присутствия, некогда бывшего, ощутимого даже и при отсутствии любых внешних следов (и даже тем более, чем меньше следов осталось) и обещающего встречу по ту сторону любой утраты (именно благодаря которой, в ее полноте, нерушимый и неотчуждаемый след присутствия и сохранился). Запустение освобождает посетившего свое прошлое от имен («Кто, безыменной неги жаден,...»), от привязанности к образам (так, что адресат, чье присутствие узнает и жаждет говорящий, называется лишь «тем», его образа «не сохранила память», но здесь, и именно здесь, там, где не осталось ничего, «здесь еще живет его доступный дух») – и именно это освобождение позволяет ощутить связь, осознанную как непосредственно оставленный другим человеком след в мире и в природе («посев леса»), продолженный во мне («он славить мне велит леса, долины, воды»), и увидеть в себе «наследника несрочной весны», и различить заложенное в здешнем мире обещание на будущую встречу. Этот текст самим своим движением наиболее наглядно показывает всю сложность его подходов к открывающейся ему вечности в их полноте: запустение (время) – посюсторонний Элизий (невыказываемый, неявный след, узнанный именно благодаря забвению, наследование во времени, единство опыта, укоренившегося в вечность пространства до неразличения) – встреча (вечность сверх-пространственная и сверх-временная, вечность возвращения неутрачиваемого).
Поля блаженных с пустыней бытия в едином «снятии».
P. S.
Я не думаю, что в контексте этого разговора имеет большой смысл касаться «Сумерек». Не знаю уж, отчего, но примерно в то же время, когда написано «Запустение», та сложность и глубина позиции, о которой шла речь выше, перестает быть центром его произведений (пусть и до этого она скорее только проглядывала и просвечивала). В его тоне вместе с унынием начинает сквозить какая-то раздраженность, противление, безысходный поиск выхода и избавления, утопическая ностальгия. «Сумерки», вместе с тем являясь завершением постоянной для него темы критики культуры, оказываются своим тоном близки апокалиптическим настроениям конца его века, «сумеркам» богов/идолов, «закату европы» и т. д., что делает этот сборник одновременно дальнозорким и близоруким (его смотреть с нынешней точки зрения).
Поэт-меланхолик, если он последователен, не может не быть и поэтом-апокалиптиком. Доказательство тому, пожалуй, один из самых (если не самый) интересных его «провидческих» текстов, стихотворение «Последняя смерть».
Бытие, что не новость, неуловимо для имени, но именно потому, что оно – всегда погранично («меж них оно...»), и тем естественно, тем и реально, тем и свободно. Светотень, полумрак бытия означает ограниченность человеческого знания, идущего всегда на ощупь, смотрящего «сквозь тусклое стекло», но иногда способного видеть свет, связывающий ткань событий на всем ее протяжении, смотреть на время с той стороны границы времени и вечности. Что же в подобном свете тогда видит наш говорящий?
Он видит, пользуясь его же словарем, земной, цивилизационный Элизий, царство Орфея, где искусства и науки зачаровали, совершенно приручили себе естественный порядок, где нет ничего, кроме тотальной явленности знанию. Человеческая воля полноценно расставляет все точки над i, ее свет проникает «и в эмпирей, и в хаос», какая-либо граница, ограниченность человека преодолевается и исчезает. Однако, как ни парадоксально, проницая реальность своим знанием, своей волей, он на деле полностью теряет с ней сущностную, действительную связь – перестает быть причастным к земле, обрекается на бесплодие.
Но земля как реальность неизбежно возвращается к нему, не может не вернуться, но уже в виде смерти и запустения, вновь перемешивающих, стирающих все следы, вновь возвращающих все к неизменной точке несхватываемого присутствия, к «тишине», «пустыне», немоте, «туману», нерасчлененности, безымянному времени, «земле», бытию. «Культура», пытающаяся обрести независимость от «земли», всегда будет возвращаться смертью к последней.
Это осознание, как ни странно, и открывается ему светом, светящим с той стороны, чтобы благословить, прояснив, относительность, ограниченность этой, ее счастливую зависимость от неподвластного присутствия по ту сторону жизни, «разрешающего все цепи».
Я не думаю, что в контексте этого разговора имеет большой смысл касаться «Сумерек». Не знаю уж, отчего, но примерно в то же время, когда написано «Запустение», та сложность и глубина позиции, о которой шла речь выше, перестает быть центром его произведений (пусть и до этого она скорее только проглядывала и просвечивала). В его тоне вместе с унынием начинает сквозить какая-то раздраженность, противление, безысходный поиск выхода и избавления, утопическая ностальгия. «Сумерки», вместе с тем являясь завершением постоянной для него темы критики культуры, оказываются своим тоном близки апокалиптическим настроениям конца его века, «сумеркам» богов/идолов, «закату европы» и т. д., что делает этот сборник одновременно дальнозорким и близоруким (его смотреть с нынешней точки зрения).
Поэт-меланхолик, если он последователен, не может не быть и поэтом-апокалиптиком. Доказательство тому, пожалуй, один из самых (если не самый) интересных его «провидческих» текстов, стихотворение «Последняя смерть».
Есть бытие; но именем каким
Его назвать?
Бытие, что не новость, неуловимо для имени, но именно потому, что оно – всегда погранично («меж них оно...»), и тем естественно, тем и реально, тем и свободно. Светотень, полумрак бытия означает ограниченность человеческого знания, идущего всегда на ощупь, смотрящего «сквозь тусклое стекло», но иногда способного видеть свет, связывающий ткань событий на всем ее протяжении, смотреть на время с той стороны границы времени и вечности. Что же в подобном свете тогда видит наш говорящий?
Он видит, пользуясь его же словарем, земной, цивилизационный Элизий, царство Орфея, где искусства и науки зачаровали, совершенно приручили себе естественный порядок, где нет ничего, кроме тотальной явленности знанию. Человеческая воля полноценно расставляет все точки над i, ее свет проникает «и в эмпирей, и в хаос», какая-либо граница, ограниченность человека преодолевается и исчезает. Однако, как ни парадоксально, проницая реальность своим знанием, своей волей, он на деле полностью теряет с ней сущностную, действительную связь – перестает быть причастным к земле, обрекается на бесплодие.
Но земля как реальность неизбежно возвращается к нему, не может не вернуться, но уже в виде смерти и запустения, вновь перемешивающих, стирающих все следы, вновь возвращающих все к неизменной точке несхватываемого присутствия, к «тишине», «пустыне», немоте, «туману», нерасчлененности, безымянному времени, «земле», бытию. «Культура», пытающаяся обрести независимость от «земли», всегда будет возвращаться смертью к последней.
Это осознание, как ни странно, и открывается ему светом, светящим с той стороны, чтобы благословить, прояснив, относительность, ограниченность этой, ее счастливую зависимость от неподвластного присутствия по ту сторону жизни, «разрешающего все цепи».
Фотография – Юлия Токарева