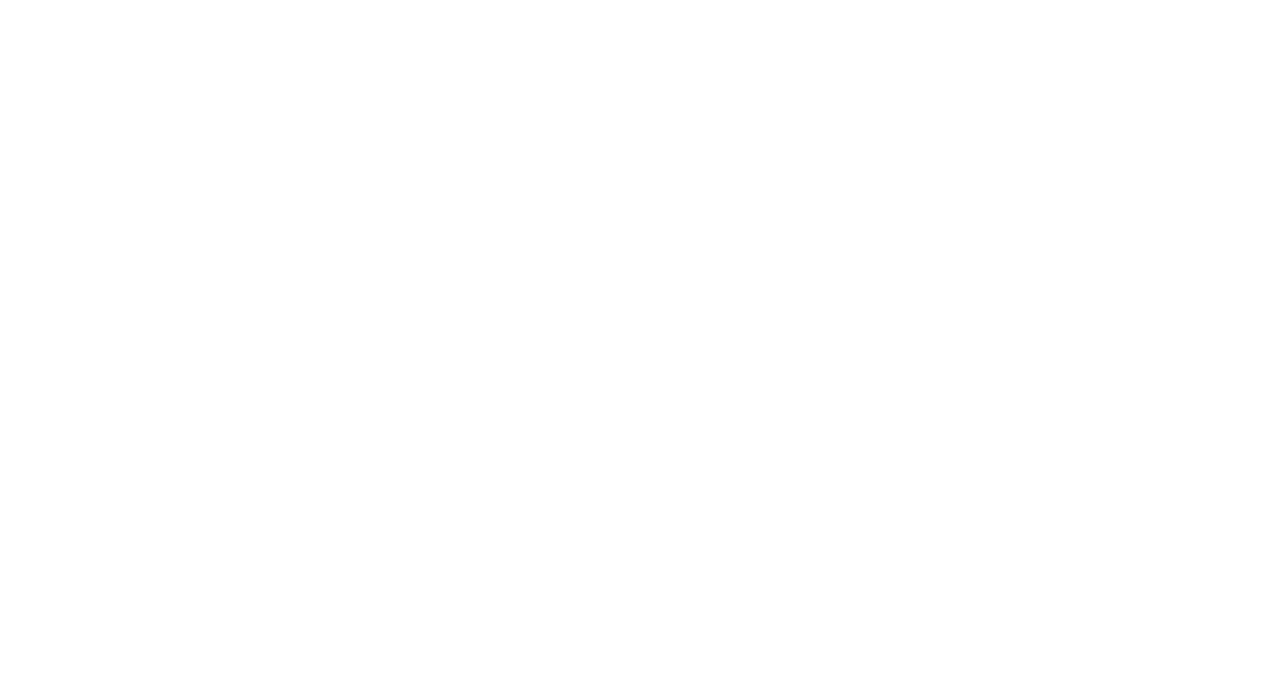САМОСЕВ
Филипп Жакоте
В переводе Петра Епифанова
И наше положение очень странно тем, что не предполагает существенного прогресса, так как почти никогда не склоняет ни к какому окончательному ответу. Мы знаем, что не сможем получить ответа, но спрашиваем от этого не меньше, ибо спрашивать – суть нашей природы. Странность, среди прочего, еще и в том, что никакой, например, философский или религиозный опыт не годится другим людям в готовом виде, но должен быть переделан и пережит заново, чтобы иметь какую-то ценность, и таким образом приходится каждый раз начинать сначала.
Отсюда досадное чувство топтания на месте: Seinesgleichen geschieht, по словам Музиля.
Но отсюда же исходит и интуиция, которой порождены многие стихи. Кто-то скажет примерно так: «Тогда я почувствовал, что мне приоткрылся порядок мира». Или: «Я понимаю язык птиц». Или еще: «Разорвалась завеса, отделяющая обыденное от реальности». (Это является и темой сказок.) Речь, несомненно, об опыте, о несомненном факте (который можно счесть обманом, но от этого он проявляется не меньше); этот опыт может принимать разные формы, но результат всегда тот же. Он проявляется с тех пор, как существуют люди, в мистических, философских, просто литературных текстах мы находим сотни его примеров. Возразят, что это мираж, но как возможен этот мираж и не имеет ли он, пусть как мираж, некоего смысла?
Этот мираж – иначе мы можем назвать его интуицией, откровением или мечтой – противопоставляет порядок беспорядку, полноту – пустоте, отвращению – восхищение, надежду, воодушевление. Можно ли поверить, что человеческая одержимость порядком, в самых разных областях, полностью лишена смысла? И не является ли нашим долгом или, по меньшей мере, правом – слушать в себе эту глубокую, непреодолимую ностальгию так, как если бы она говорила что-то важное и подлинное? Не признак ли ограниченного ума – отказываться верить в эту загадку, влекущую и озаряющую нас? Или правильнее верить в одни останки, в руины? Если мы забываемся сном, не происходит ли тогда в нас, на самом деле, прилив жизни? Лучше останемся верны нашему непосредственному опыту, чем будем слушать то, что во внешней жизни противоречит ему.
Но как заново начать? Всё налицо. Каким окольным, непрямым путем? Каким отсутствием путей? Идти от обнажения, от слабости, от сомнения. Забывая то, что сделано раньше, недорого ценя то, что сделано и удостоено похвал, то, что советуют сегодняшнему поэту и чего от него требуют.
В частности, бросая вызов уплощению душ. Не ветхие одежды принцев или рыцарей, но их достоинство, их сдержанность. Поэзии не бывает без возвышенности. В этом, во всяком случае, я уверен, и силен этой уверенностью, за неимением другой силы. Но не за́мки: улицы, комнаты, дороги, наша жизнь.
Осень, огонь дождливый, ветхий огонь, костер. Старое железо, дерево и туманы. Ржавчина, пепел. Рассвет пепельный, истощенный, отшумевший праздник, разорванные, размытые орнаменты. Туманы вооруженные, шагающие по полям и садам. Лемех холода, продвигаясь вперед, блещет. Тень за ним, во весь рост, пашет.
...И все-таки я вновь увидел поля, деревья, ложбины такими, какими они всегда бывали в эту пору года, когда между неделями сплошного дождя или ветра выдается погожий день. Вновь открыл слабый свет осени на стволах дубов и это золотое гудение листьев, держащихся на этих мощных плечах, на искривленных черных колоннах; и желтые тополя, застывшие вдоль невидимой воды; и изгибы почвы, уже почти ничем не прикрытые; и плоские выступы камня между низких деревьев; и колючий кустарник, в котором перемешаны темно-зеленый и рыжий; и сверкающую искорками пашню; и голубей, что взлетают со звуком то ли аплодисментов, то ли белья, когда оно полощется на ветру, а два из них, самые белые, выписывают в синеве неба чистую линию своего полета. И только чуть завесят солнце облака на горизонте, как сразу всё становится почти темным, и холод, что твоя коса, проходит по всей округе. Кое-где восходят к небу дымки.
Говорить с этой пустотой в груди, вопреки ей. Побеги акации на белом, почти голубом фоне неба. Сжигать мертвую листву, полоть сорняки – может быть, этим и ограничиться.
Эти побеги с последними, бледными, истонченными листьями. Вступаем в зиму. (…)
Что-то подобное закланию коровы с позолоченными рогами в «Одиссее».
То, что постигается в истощении, в исчезновении. Дерево, сгорающее в огне. Во мне, моими устами, всегда говорила лишь смерть. Вся поэзия – голос, отданный смерти. Чтобы наше разрушение ликовало, торжествовало. Чтобы сияло, чтобы трубило наше поражение.
Если бы я не двигался к концу, то не обладал бы взглядом.
Кружащие или стрелой падающие птицы, вас видит лишь тот, кто смертен, кто, изнемогая, помалу опускается в прах.
Взгляд и голос разрушаемого.
Дубов, украшенных плющом.
Пусть нас охраняет их суровость, а свет умеряется их листвой.
Безмолвие, покой, ожидание.
Когда-нибудь мы, хоть однажды, проведем лето в этом месте.
…А потом все раскалывается на куски: не только место унесено, но и воспоминание о нем, и похвалы этому месту. Венки сорваны, колонны разбиты, узы распались, но если б только это: почва, скрижаль разбивается. Останется лишь просвет в гуще деревьев и листвы. Рассыпанные перышки удода. Рождение звезды. И все-таки наша мысль удерживает это. Мысль, которая тоже, в свой черед, уносится, а слова рассыпаются, даже самые чистые.
Войти в сонм темных дубов, золотых гребней, и размышлять об их разрушении. (…)
По мере того как низ, глубина становятся более темными, зелеными, более берущими за душу, чем любая примета из детства, воспоминания, времени, накопленного в травах, высота и даль становятся все более розовыми, золотыми, сияющими. Дымка быстро проникает в сад. А в небе – цветы, лоскутья огня, свет, принимающий форму в облаках. А в самой высоте – яснее всего.
Орион, который будто хочет повернуться на запад.
Ночь – облачная, темная, без глубины, с летящими полотнищами или витыми косами, их белесоватыми боками, как если бы за тучами в некоторых местах неба держали лампу не для того, чтобы осветить и указать дорогу, а скорее чтобы напугать и сбить с толку. Влажные занавесы театра, в котором не идет ничего хорошего. Цвет мертвенной бледности. Но над давно знакомым пейзажем, известным почти наизусть, внезапно – неизведанное пространство: небо Эль Греко. Хотя это всего лишь какие-то лоскутья тумана, помимо которых вся ювелирная геометрия остается нетронутой, узлы, завязанные ветрами, неспокойное весеннее дыхание лесов и земли, обрывки мокрой ветоши.
Цветение персика: впечатление толпы, роя, гула в раскрытии почек, всегда так волнующем меня – самая чистая примета ранней весны. Впечатление молчаливого взрыва. Но больше всего поражает изобилие, множество. А потом – первый цветок, распускающийся под дождем, как розовая звезда. Созвездие Персика. У него цвет зари. Персик, созвездие зари.
Созерцатель земного зодиака, некой галактики, задержавшейся в саду. А скоро зацветет и акация; я помнил об этом, но не поверил бы, что это будет столь же расточительно. Ароматы, белизна, майская или июньская ночь – всё самое мимолетное в году.
Пшеничные поля – зеркала с набегающей рябью, волнами, дрожью. Дух, не останавливаясь, носится по этим землям.
Дождь косой, переменчивый, проходящий стороной или убегающий; шум трактора, неопределенный, возможно, в полях. Дни еще холодные, ненастные. Звук от машин тот же, что и от трактора, от какого-то орудия, погружающегося в вещество воздуха, буравя его.
Слова, краткие, как скоротечный дождь. Как те росчерки, которые он на считанные минуты оставляет на стекле, сияющие, звездные, – и, однако, у каждой жемчужины, у каждой капли – темная серединка. За звездой этих слез трава кажется немного зеленее, и такая же зелень в самой гуще деревьев. Туман, синий, как дали. (…)
Всякая поэтическая деятельность обращена на то, чтобы приводить к согласию или, по меньшей мере, сближать предел и беспредельность, ясное и темное, дуновение и форму. Именно поэтому стихотворение возвращает нас в центр нас самих, к нашей центральной заботе, к некоему метафизическому вопросу. Дуновение движет, поднимается ввысь, расцветает, исчезает; оно нас воодушевляет и ускользает от нас; мы пытаемся его схватить, не заглушая. С этой целью мы изобретаем язык, в котором сочетаются строгость с неясным, где мера не мешает движению развиваться последовательно, но выказывает его и, таким образом, не дает полностью потеряться.
Может быть, красота рождается, когда предел и беспредельность становятся видимы одновременно, то есть когда видишь образы, целиком понимая, что они не говорят всего, что они не сводятся к себе самим, что оставляют за непостижимым его долю. В том, что лишь непостижимо, красоты нет, во всяком случае, для наших глаз, как нет ее и в формах без глубины, полностью раскрывающих себя, развернутых. Но сочетания предела и беспредельного бесчисленны, отсюда и берется разнообразие в искусстве. У Рембрандта беспредельное властно присутствует, а у Энгра нет почти ничего, кроме форм, и его живопись, несмотря на большие познания, бедна. У Шардена, у Брака беспредельное, можно сказать, приручено, приглушено, как огонь в лампе. И это тоже еще не все искусство. Зато в «Божественной комедии» именно беспредельное задает форму тому, что имеет предел: всё продиктовано грандиозной архитектоникой, делающей законным подлинно широкий обзор; проявляется поразительное интеллектуальное усилие придать форму Абсолютному.
Притом что человек постоянно раздвигает пределы, беспредельное не сокращается, иначе оно бы не было беспредельным. В этом и ошибка иных людей нашего времени, которые, мысля беспредельность в количественных терминах, полагают, будто человек подчинит ее себе, научившись беспрепятственно разгуливать в небесах. Но небо было образом беспредельности, лишь пока само казалось беспредельным, недоступным; теперь же ничто из видимого более не кажется укрытым от власти человека; но истинное невидимое не изменилось, не уменьшилось и не ослабело ничуть, оно лишь обрело свою подлинную природу, не имеющую образа. Теперь Бог воистину дух, и совершенно недосягаем для образов, разве что негативных. Теперь Бог не может даже именоваться Богом. Его больше не чтут как царя.
Это не повод считать, что уже не существует форм, пределов для видимого, конечного. Но требуется быть как никогда внимательным к словам. А на самом деле, стоит спросить себя: был ли когда Бог могущественней, чем в наши дни, когда провозглашена его смерть?
Я рассматривал лик ночи, драгоценности, украшающие ее удаленность. Недоступная султанша: нижняя часть лица под вуалью лунной дымки, красота отпылавшая, обращенная в угли, головня, которой не может схватить ничья рука.
Но то внутреннее, которое мы противопоставляем внешнему (когда говорим, например, о внутренней жизни), никоим образом не внутри, никоим образом не снаружи, или, скорее, только в определенном смысле внутри: оно расходится по кругу, как передаваемые и принимаемые радиоволны, и материализуется лишь сталкиваясь со внешним. «Deus interior intimo meo», Бог, более внутренний, чем я сам, абсолютно внутренний, абсолютно не-вовне. Бог, сущий внутри слова, Дуновение. Те, кто обращается со словом, стоят ближе к Богу, следовательно, на них лежит обязанность относиться к слову почтительно, поскольку оно передает дуновение, а не скрывает его, не сковывает, не угашает. Слово как проход, как просвет, оставленный дуновению. Потому мы и любим долины, реки, дороги, простор. Они указывают на дуновение. Ничто не завершено. Надо чувствовать это дыхание и то, что мир не что иное, как его преходящий образ.
Может быть, ритмизованное слово – более или менее удачное подражание этому дыханию. В нем предчувствуется сила расширения, восхождения, которая, однако, подчинена порядку, форме, а потому не теряется, не растрачивается. Всё на свете есть краткий перерыв в дуновении, скоротечное состояние покоя вечно дышащего божества. Целый мир как приостановленное дуновение. Так ветер стихает в саду; потом поднимается вновь, и все вокруг меняется; но ничто не потеряно; вечно дыхание божества.
Невидимая сила, сердце мира ненадолго возобновляет дыхание: возникают деревья, горы, но внимательному взгляду видны их скоротечность, их движение, их неопределенный, переходный характер.
И нечем прикрыть ужасающую несправедливость жизненных жребиев?
Как сделать ощутимым, как закрепить хрупкое равновесие, чем-то подобное стеклянному или даже водяному столбу, опирающемуся на пустоту? Мы опираемся на само стихотворение, а это опора хрупкая, отчасти обманчивая. Блещет – и обрушивается: звук водопада в ночи. Смешение между стихотворением и его предметом. (…)
Seinesgleichen geschieht – «Происходит одно и то же» (нем.) – название второй части романа Р. Музиля «Человек без свойств», который Жакоте перевел роман на французский язык.
Ванту – самая высокая гора в Провансе (1909 м), вид на которую открывается от дома Ф. Жакоте в Гриньяне. В истории поэзии знаменита тем, что 26 апреля 1336 г. Франческо Петрарка, живший тогда неподалеку, в Авиньоне, поднялся на нее вместе с братом, оставив об этом событии яркий рассказ.
«Deus interior intimo meo» – «Бог, более внутренний, чем сокровенное мое» (лат.). Ср. Аврелий Августин, Исповедь, III, 6, 11: «Ты же был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих» (пер. М. Сергеенко).
Торжествование – Solennisation.
«Allegria» («Веселье», 1931) – название сборника Дж. Унгаретти, объединившего стихи, написанные в период Первой мировой войны и в 1920-е гг. В книгу в полном составе вошли стихи из двух первых, малотиражных, сборников поэта: «Порт погребенный» (1916) и «Веселье крушений» (1919). Жакоте был многолетним другом и переводчиком Унгаретти.