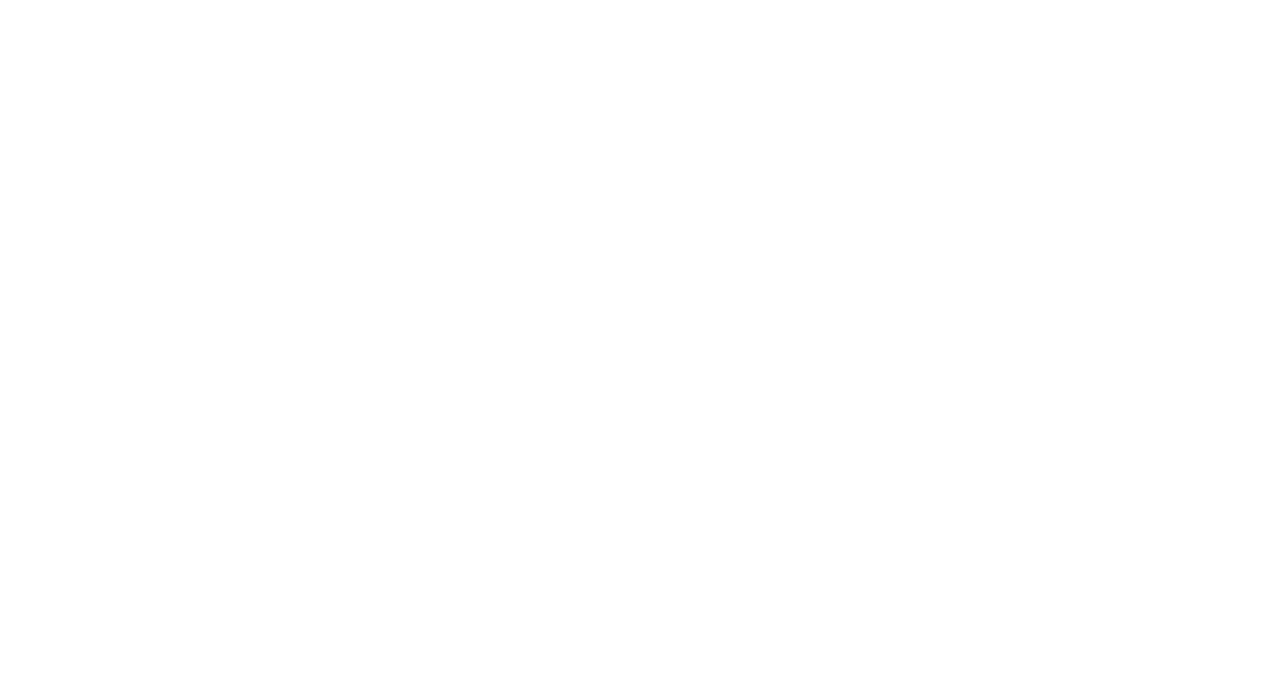эссе
Интервью с Феликсом Якубсоном
ДАНИИЛ ШВЕД
Интервьюируемый:Феликс Израилевич Якубсон – родился 28 октября 1941 года в Ленинграде. В 1965 году окончил физический факультет Ленинградского электротехнического института. Работал ассистентом режиссера, затем режиссером на киностудии «Леннаучфильм». С 1992 года – независимый продюсер, координатор общественной организации «Ф-Семинар». С Леонидом Аронзоном и его ближайшим окружением сблизился во второй половине 60-х.
- Как вы познакомились с ЛА?
Познакомились мы на студии. В коридоре на втором этаже было что-то типа «курилки», и там обычно всегда кто-то торчал, кто-то кого-то ждал. Там мы и встретили друг друга. Хотя не исключено, что мы и виделись раньше, в 46 автобусе, который ходил до студии на Мельничной улице. Я был молодым режиссером, потом уже не очень молодым, я там проработал много лет. А он писал там сценарии и ездил в редакцию. Аронзон очень дружил с Валерием Александровичем Сусловым. В 70-е Суслов стал главным редактором студии, а до этого был просто редактором. Замечательный человек, очень талантливый, эрудированный, он давал «прикорм» на студии Бродскому, Рейну и другим. Он же привел на студию Аронзона и был другом дома.
- То есть впервые вы увиделись с ЛА на студии «Леннаучфильма»?
Да, мы виделись и на студии, и вот в этом 46 автобусе. Я обычно рассказываю, что наше общение началось после того, как он подошел ко мне в автобусе и предложил купить швербот, такая лодка. Я, естественно, согласился, сказал «давай». Это вот такая уже легенда, которую я рассказываю о знакомстве, может, я что-то и надумал за столько лет. Но то, что он в какой-то момент действительно предложил мне купить швербот – это точно.
- Купили?
Нет! Но я не имел ничего против знакомства. И хотя я про него ничего предварительно не знал, он был мне по первому визуальному впечатлению симпатичен. В какой-то день мы поехали на стоянку маломерных судов в устье Невы, ближайшее к парку Культуры и отдыха, тогда это называлось ЦПКО (центральный парк культуры и отдыха им. Кирова, ныне – Елагин остров). Там была такая стихийная стоянка, никто в то время лодочников не трогал. Некоторые даже жили на этих суденышках летом, и там у его приятеля, Юры Сорокина, была своя лодка, свое место и тусовка. Тусовка людей, про которых Таня Никольская написала книжку. Они называли себя «Мудисты». Как-то мы с Аронзоном туда поехали и провели там какое-то время. Но еще раньше этого был другой случай близкого общения.
Аронзон хотел пойти в гости к Михнову, но у него не было денег на выпивку. И он подошел ко мне на студии и спросил: «У тебя деньги есть?» Я говорю, что немного есть. «А на бутылку есть?» Я говорю: «Да, есть». «Хочешь в гости пойдем к приятелю моему?» Я согласился. И мы с ним пошли к Михнову, который тогда жил еще на Рубинштейна. Михнов жил в очень маленькой комнатке коммунальной квартиры, там можно было протиснуться только между кроватями и картинами, к тому же он еще и жил с собакой. Аронзон с Михновым были счастливы, что нашелся человек, который купил им бутылку. Я просто сидел и слушал. Я только что недавно закончил электротехнический институт, стремился в гуманитарный мир, ходил в Публичку читать, в спецхран как-то попадал. Искал выходы в нормальный человеческий мир из советского безумия. Тогда я не понимал, что это безумие, но понимал, что вокруг еще есть что-то.
- Значит, из друзей ЛА вы сначала познакомились с Михновым?
Да, с Михновым. Потом меня стали звать в гости. Я начал приходить сюда. Рита, и весь дом, и вообще все произвело на меня сильное впечатление – этакой богемный мир. Я не понимал, как можно не ходить либо на учебу, либо на службу, либо еще куда-то. Я представлял себе мир как обязательно нормативный. Должна быть работа, учеба или еще что-то по 7-8 часов с утра, а потом уже остальная твоя жизнь. И я увидел совершенно другой подход к жизни. Можно целый день сидеть за столом, пить чай, говорить непонятно о чем, говорить не конкретно, а просто сидеть и просто жить. Как можно просто жить? Тогда мне это было совершенно непонятно.
- А вы часто бывали в доме?
Да, потом начал бывать часто, конечно. Это было очень интересно. Это было для меня новое. Вот так все начиналось.
- Это было похоже на простые домашние посиделки или на что-то другое?
Дело же еще в том, что Рита была очень больным человеком. У нее после военного, блокадного детства был комбинированный порок сердца. Клапан не закрывался, артерии были не очень хорошие. Поэтому она была человеком с ограниченной подвижностью. И много времени она проводила вокруг дивана, вокруг постели. Это создало какие-то предпосылки, поскольку она была человек безумно талантливый и талантливый именно в общении. Она постоянно жила с болями и была человеком невероятной сострадательности. Она, например, могла увидеть одиноко бегущую собаку и начать чуть ли не плакать. Она очень переживала за всех и хорошо чувствовала чужую боль. Это привлекало к ней людей. Она очень любила слушать, и ей всегда любили рассказывать что-то. Я сам был впечатлен, как она меня внимательно слушала, как она меня расспрашивала, и как ей было действительно интересно, как я живу, что происходит у меня внутри, в душе. Так было практически со всеми, кто попадал в ее орбиту. Она была, можно сказать, профессиональным «переживателем» за других людей.
- Лариса Хайкина и Юрий Шмерлинг отмечали, что Рита была негласным лидером их круга в студенческие годы. А Галина Блейх в одном из своих интервью использует словосочетание «ритин круг», подразумевая людей, собиравшихся в доме Аронзона и Пуришинской. Как думаете, можно сказать, что Рита делит место с ЛА во главе этого круга? «Ритин круг» – это своеобразный синоним того, что принято называть «аронзоновским кругом»?
У Аронзона, конечно, был свой отдельный мужской круг – погулять, выпить, покурить. Он как раз часто пишет о проблеме сохранения себя как личности рядом с таким человеком, как Рита. Сложно жить с такой женщиной и не быть подмятым ее авторитетом, сохранить себя как личность, реализоваться – это очень сложно. Как человек, попавший под «этот поезд», я прекрасно понимаю, как это непросто. Сохранить свои оценки, свое мироощущение рядом с таким выдающимся человеком, который не давит, но своим видением мира уже формирует или ограничивает твое собственное. Это сложно.
- А чей все-таки больше это был дом? Маргариты или Аронзона?
Это слишком просто и одновременно очень сложно, потому что «дом Аронзона» – это как связь с физическим лицом; это был Леня Аронзон, который вечно носил голубую вельветовую куртку, всегда держал папиросу во рту и жил так, как жил. А есть же еще Аронзон как явление поэтическое и культурное. Его жизнь, конечно, трудно объять или понять, если не знать и не учитывать того, кто был рядом с ним и кто во многом сделал его таким, каким мы его уже приняли. Это видно по его стихам, он сам об этом писал. Поэтому я убежден, что «дом Аронзона» – это явление союза двух людей. Рита, конечно, была кумиром для многих, но Аронзон был абсолютно самостоятелен. Он был серьезной, крупной личностью, и отношения с женой – очень любовные, очень дружеские и очень глубокие – тоже бывали конфликтные. Проблема выхода из-под ее влияния – это вообще одна из главных проблем его жизни. Во многом, может быть, определившая даже, как все закончилось.
- Мы можем говорить, что Рита все равно распространяла свое «влияние» даже на тот «мужской» круг Аронзона. Александр Альтшулер, например, очень переживал, что Рита «не приняла его в гении».
Я думаю, что Алик (Александр Альтшулер) на самом деле состоялся по-настоящему уже после ухода Аронзона. Честно говоря, я даже впервые об этом задумался. На самом деле, я сейчас вдруг вспоминаю, что она очень серьезно относилась к его творчеству. Я сам под очень большим впечатлением от его творчества, я высоко ценю все, что он делал. Просто так получилось, что Аронзон был фронтменом их дружеского союза, но Алик – потрясающий литератор, для меня он абсолютно самостоятельный автор, очень высокого уровня.
- Получается, и с Альтшулером вы познакомились тоже здесь?
А вот это интересный вопрос. Я не помню Алика тех времен, когда Аронзон был жив. Он у меня в голове появляется только после ухода Аронзона, уже только через Риту, потому что в 60-х я его не помню совершенно.
- Как думаете, кого еще, помимо Альтшулера и Михнова, можно назвать по-настоящему близким к ЛА? Если говорить о тех временах, которые застали Вы.
Дело в том, что у Аронзона была ведь компания людей творческих, являющихся очень серьезными авторами. А была еще и близкая компания просто друзей по «проведению времени»: подкуривали, выпивали, гуляли, может, немножко хулиганили. Вот, например, какие-то друзья по «Сайгону» у него были.
Еще, конечно, нужно назвать Игоря Мельца, Вадика Бытенского. Они очень разные люди. Вадик Бытенский – это его друг детства, с которым они жили рядом еще на Бакунина. Он стал достаточно известным инженером, уехал в Канаду, сделал там серьезную карьеру. Еще был Эдик Сорокин, он тоже был большим другом Вадика. А вот Юру Сорокина, у которого была лодка, я знал очень плохо и в 70-е годы с ним практически не общался, но он тоже был близким человеком для Аронзона. У них была знаменитая крымская экспедиция в 1963 году, они пытались заработать на жизнь при помощи фотосъемки на пляжах.
Про те времена мне сложно говорить, потому что я представлял из себя человека, дружба с Аронзоном у которого была в другой плоскости, не в плоскости Сайгона или чего-то такого тусовочного. Я человек из другого мира. По началу я смотрел даже на это как-то свысока, мне казалось, что люди дурью маются. Но потом как раз через Аронзона и Риту я понял, у меня произошел сдвиг.
- Как бы Вы в целом охарактеризовали ЛА как личность, что бы Вы могли выделить в нем?
Надо сказать, что он был немногословен и не говорил слов попусту. Как я сейчас понимаю, он никогда не говорил для того, чтобы просто говорить. Речь его всегда была содержательна. Практически каждое его высказывание было сущностное. Он ценил все, сказанное вслух. Для него было важным каждое слово. Могу сослаться как раз-таки на мое первое или одно из первых впечатлений об Аронзоне, когда мы пошли с бутылкой к Михнову. Я слушал их разговор и, как говорят, сидел «с открытым ртом». Это был разговор о внутренней и духовной жизни. Было видно, что эти люди «продвинутые». Они говорят о собственных переживаниях, мыслях, чувствах на каком-то четвертом или пятом этаже относительно того, что мог в те времена из себя извлечь я; как человек, закончивший электротехнический институт, занимающийся кино, читающий какие-то серьезные книги, но практики общения про душевные состояния, про называния того, чего обычные люди не называют, – у меня не было. А там это было все открыто, и это было предметом важного чисто человеческого общения, а не каким-то светским жестом. Для меня это было открытием, что об этом можно говорить. Они переносят в разговорный жанр то, что я даже сам себе еще не могу сказать, не могу сформулировать, а они вот просто беседуют, как мы сейчас с тобой. Мне казалось это немыслимым.
Познакомились мы на студии. В коридоре на втором этаже было что-то типа «курилки», и там обычно всегда кто-то торчал, кто-то кого-то ждал. Там мы и встретили друг друга. Хотя не исключено, что мы и виделись раньше, в 46 автобусе, который ходил до студии на Мельничной улице. Я был молодым режиссером, потом уже не очень молодым, я там проработал много лет. А он писал там сценарии и ездил в редакцию. Аронзон очень дружил с Валерием Александровичем Сусловым. В 70-е Суслов стал главным редактором студии, а до этого был просто редактором. Замечательный человек, очень талантливый, эрудированный, он давал «прикорм» на студии Бродскому, Рейну и другим. Он же привел на студию Аронзона и был другом дома.
- То есть впервые вы увиделись с ЛА на студии «Леннаучфильма»?
Да, мы виделись и на студии, и вот в этом 46 автобусе. Я обычно рассказываю, что наше общение началось после того, как он подошел ко мне в автобусе и предложил купить швербот, такая лодка. Я, естественно, согласился, сказал «давай». Это вот такая уже легенда, которую я рассказываю о знакомстве, может, я что-то и надумал за столько лет. Но то, что он в какой-то момент действительно предложил мне купить швербот – это точно.
- Купили?
Нет! Но я не имел ничего против знакомства. И хотя я про него ничего предварительно не знал, он был мне по первому визуальному впечатлению симпатичен. В какой-то день мы поехали на стоянку маломерных судов в устье Невы, ближайшее к парку Культуры и отдыха, тогда это называлось ЦПКО (центральный парк культуры и отдыха им. Кирова, ныне – Елагин остров). Там была такая стихийная стоянка, никто в то время лодочников не трогал. Некоторые даже жили на этих суденышках летом, и там у его приятеля, Юры Сорокина, была своя лодка, свое место и тусовка. Тусовка людей, про которых Таня Никольская написала книжку. Они называли себя «Мудисты». Как-то мы с Аронзоном туда поехали и провели там какое-то время. Но еще раньше этого был другой случай близкого общения.
Аронзон хотел пойти в гости к Михнову, но у него не было денег на выпивку. И он подошел ко мне на студии и спросил: «У тебя деньги есть?» Я говорю, что немного есть. «А на бутылку есть?» Я говорю: «Да, есть». «Хочешь в гости пойдем к приятелю моему?» Я согласился. И мы с ним пошли к Михнову, который тогда жил еще на Рубинштейна. Михнов жил в очень маленькой комнатке коммунальной квартиры, там можно было протиснуться только между кроватями и картинами, к тому же он еще и жил с собакой. Аронзон с Михновым были счастливы, что нашелся человек, который купил им бутылку. Я просто сидел и слушал. Я только что недавно закончил электротехнический институт, стремился в гуманитарный мир, ходил в Публичку читать, в спецхран как-то попадал. Искал выходы в нормальный человеческий мир из советского безумия. Тогда я не понимал, что это безумие, но понимал, что вокруг еще есть что-то.
- Значит, из друзей ЛА вы сначала познакомились с Михновым?
Да, с Михновым. Потом меня стали звать в гости. Я начал приходить сюда. Рита, и весь дом, и вообще все произвело на меня сильное впечатление – этакой богемный мир. Я не понимал, как можно не ходить либо на учебу, либо на службу, либо еще куда-то. Я представлял себе мир как обязательно нормативный. Должна быть работа, учеба или еще что-то по 7-8 часов с утра, а потом уже остальная твоя жизнь. И я увидел совершенно другой подход к жизни. Можно целый день сидеть за столом, пить чай, говорить непонятно о чем, говорить не конкретно, а просто сидеть и просто жить. Как можно просто жить? Тогда мне это было совершенно непонятно.
- А вы часто бывали в доме?
Да, потом начал бывать часто, конечно. Это было очень интересно. Это было для меня новое. Вот так все начиналось.
- Это было похоже на простые домашние посиделки или на что-то другое?
Дело же еще в том, что Рита была очень больным человеком. У нее после военного, блокадного детства был комбинированный порок сердца. Клапан не закрывался, артерии были не очень хорошие. Поэтому она была человеком с ограниченной подвижностью. И много времени она проводила вокруг дивана, вокруг постели. Это создало какие-то предпосылки, поскольку она была человек безумно талантливый и талантливый именно в общении. Она постоянно жила с болями и была человеком невероятной сострадательности. Она, например, могла увидеть одиноко бегущую собаку и начать чуть ли не плакать. Она очень переживала за всех и хорошо чувствовала чужую боль. Это привлекало к ней людей. Она очень любила слушать, и ей всегда любили рассказывать что-то. Я сам был впечатлен, как она меня внимательно слушала, как она меня расспрашивала, и как ей было действительно интересно, как я живу, что происходит у меня внутри, в душе. Так было практически со всеми, кто попадал в ее орбиту. Она была, можно сказать, профессиональным «переживателем» за других людей.
- Лариса Хайкина и Юрий Шмерлинг отмечали, что Рита была негласным лидером их круга в студенческие годы. А Галина Блейх в одном из своих интервью использует словосочетание «ритин круг», подразумевая людей, собиравшихся в доме Аронзона и Пуришинской. Как думаете, можно сказать, что Рита делит место с ЛА во главе этого круга? «Ритин круг» – это своеобразный синоним того, что принято называть «аронзоновским кругом»?
У Аронзона, конечно, был свой отдельный мужской круг – погулять, выпить, покурить. Он как раз часто пишет о проблеме сохранения себя как личности рядом с таким человеком, как Рита. Сложно жить с такой женщиной и не быть подмятым ее авторитетом, сохранить себя как личность, реализоваться – это очень сложно. Как человек, попавший под «этот поезд», я прекрасно понимаю, как это непросто. Сохранить свои оценки, свое мироощущение рядом с таким выдающимся человеком, который не давит, но своим видением мира уже формирует или ограничивает твое собственное. Это сложно.
- А чей все-таки больше это был дом? Маргариты или Аронзона?
Это слишком просто и одновременно очень сложно, потому что «дом Аронзона» – это как связь с физическим лицом; это был Леня Аронзон, который вечно носил голубую вельветовую куртку, всегда держал папиросу во рту и жил так, как жил. А есть же еще Аронзон как явление поэтическое и культурное. Его жизнь, конечно, трудно объять или понять, если не знать и не учитывать того, кто был рядом с ним и кто во многом сделал его таким, каким мы его уже приняли. Это видно по его стихам, он сам об этом писал. Поэтому я убежден, что «дом Аронзона» – это явление союза двух людей. Рита, конечно, была кумиром для многих, но Аронзон был абсолютно самостоятелен. Он был серьезной, крупной личностью, и отношения с женой – очень любовные, очень дружеские и очень глубокие – тоже бывали конфликтные. Проблема выхода из-под ее влияния – это вообще одна из главных проблем его жизни. Во многом, может быть, определившая даже, как все закончилось.
- Мы можем говорить, что Рита все равно распространяла свое «влияние» даже на тот «мужской» круг Аронзона. Александр Альтшулер, например, очень переживал, что Рита «не приняла его в гении».
Я думаю, что Алик (Александр Альтшулер) на самом деле состоялся по-настоящему уже после ухода Аронзона. Честно говоря, я даже впервые об этом задумался. На самом деле, я сейчас вдруг вспоминаю, что она очень серьезно относилась к его творчеству. Я сам под очень большим впечатлением от его творчества, я высоко ценю все, что он делал. Просто так получилось, что Аронзон был фронтменом их дружеского союза, но Алик – потрясающий литератор, для меня он абсолютно самостоятельный автор, очень высокого уровня.
- Получается, и с Альтшулером вы познакомились тоже здесь?
А вот это интересный вопрос. Я не помню Алика тех времен, когда Аронзон был жив. Он у меня в голове появляется только после ухода Аронзона, уже только через Риту, потому что в 60-х я его не помню совершенно.
- Как думаете, кого еще, помимо Альтшулера и Михнова, можно назвать по-настоящему близким к ЛА? Если говорить о тех временах, которые застали Вы.
Дело в том, что у Аронзона была ведь компания людей творческих, являющихся очень серьезными авторами. А была еще и близкая компания просто друзей по «проведению времени»: подкуривали, выпивали, гуляли, может, немножко хулиганили. Вот, например, какие-то друзья по «Сайгону» у него были.
Еще, конечно, нужно назвать Игоря Мельца, Вадика Бытенского. Они очень разные люди. Вадик Бытенский – это его друг детства, с которым они жили рядом еще на Бакунина. Он стал достаточно известным инженером, уехал в Канаду, сделал там серьезную карьеру. Еще был Эдик Сорокин, он тоже был большим другом Вадика. А вот Юру Сорокина, у которого была лодка, я знал очень плохо и в 70-е годы с ним практически не общался, но он тоже был близким человеком для Аронзона. У них была знаменитая крымская экспедиция в 1963 году, они пытались заработать на жизнь при помощи фотосъемки на пляжах.
Про те времена мне сложно говорить, потому что я представлял из себя человека, дружба с Аронзоном у которого была в другой плоскости, не в плоскости Сайгона или чего-то такого тусовочного. Я человек из другого мира. По началу я смотрел даже на это как-то свысока, мне казалось, что люди дурью маются. Но потом как раз через Аронзона и Риту я понял, у меня произошел сдвиг.
- Как бы Вы в целом охарактеризовали ЛА как личность, что бы Вы могли выделить в нем?
Надо сказать, что он был немногословен и не говорил слов попусту. Как я сейчас понимаю, он никогда не говорил для того, чтобы просто говорить. Речь его всегда была содержательна. Практически каждое его высказывание было сущностное. Он ценил все, сказанное вслух. Для него было важным каждое слово. Могу сослаться как раз-таки на мое первое или одно из первых впечатлений об Аронзоне, когда мы пошли с бутылкой к Михнову. Я слушал их разговор и, как говорят, сидел «с открытым ртом». Это был разговор о внутренней и духовной жизни. Было видно, что эти люди «продвинутые». Они говорят о собственных переживаниях, мыслях, чувствах на каком-то четвертом или пятом этаже относительно того, что мог в те времена из себя извлечь я; как человек, закончивший электротехнический институт, занимающийся кино, читающий какие-то серьезные книги, но практики общения про душевные состояния, про называния того, чего обычные люди не называют, – у меня не было. А там это было все открыто, и это было предметом важного чисто человеческого общения, а не каким-то светским жестом. Для меня это было открытием, что об этом можно говорить. Они переносят в разговорный жанр то, что я даже сам себе еще не могу сказать, не могу сформулировать, а они вот просто беседуют, как мы сейчас с тобой. Мне казалось это немыслимым.