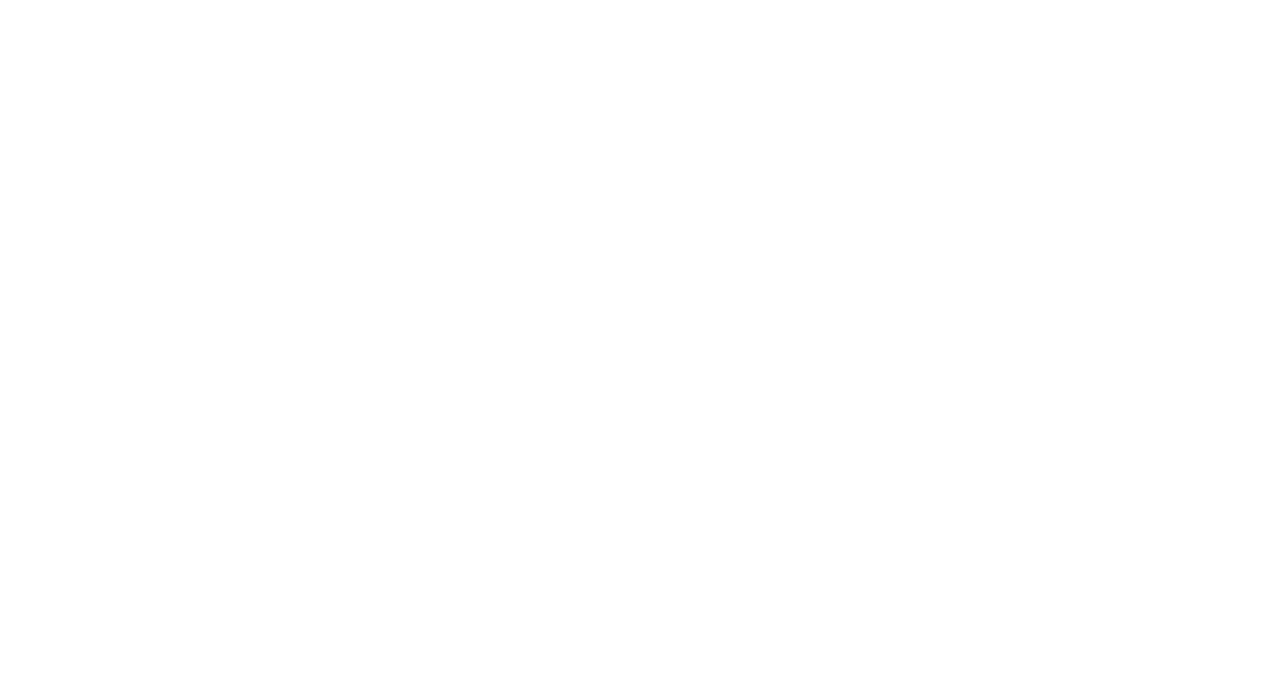Гребень невидимого пожара:
о надежде Филиппа Жакоте
о надежде Филиппа Жакоте
Виктория Файбышенко
«Камыш: как его бархатные початки разрываются, медленно выпуская волну семян, как какое-то жабо, в абсолютном безмолвии. Человеческие роды: крики, кровь.
В абсолютном безмолвии, с нежной, неудержимой медлительностью, растение разрывается и рассеивает себя, доверяясь ветру»¹
Мне больно отказаться от образов
Нужно чтобы лемех меня рассек
зеркало старости зеркало зимы
Нужно чтобы время меня засеяло²
Но именно в современности Жакоте обретает не только свою рану, но и свое задание, определяемое особым родом чуткости. Он не отказывается от высоких вещей, но проживает их принципиальную уязвимость, открытость «холоду мира» (О. Седакова).
В ноябре 1959 он записывает:
«Может быть, современность при всем, что она содержит отрицательного, – при всей этой гигантской глыбе, преградившей путь к небу, – дает нам и счастливый урок: что мы – дети времени, и через него нам дано все, то есть даются, нерасторжимо, все противоположности; что мы не должны и не можем выйти из противоречия; что наше дело – лишь не давать одному из его членов взять верх над другим»³.
И ниже, уже в качестве вывода: «Поэзии не бывает без возвышенности. В этом, во всяком случае, я уверен, и силен этой уверенностью, за неимением другой силы. Но не замки: улицы, комнаты, дороги, наша жизнь».
Современность – это и есть беззащитность, неспособность выйти из противоречия. В каждую эпоху человек беззащитен по-своему, но «прекрасное и возвышенное» до поры казалось неповредимым. В нем праздновало свою победу то в смертном бытии, что не поддается смерти:
И пусть у гробового входа
младая будет жизнь играть,
и равнодушная природа
красою вечною сиять.
Это убеждение в вечности красоты, живущей в невечных телах, объединяло всех от Платона до Пушкина.
Если красота дана в самих вещах (или, может быть, в нашей способности непосредственно созерцать в феномене идею, как говорил Гете), то есть сообщает о неистощимом благе в природе, возвышенное возвращает человека к неодолимости его собственной души, сверхъестественного в нас.
Кант говорит: «Возвышенность содержится не в какой-либо вещи в природе, а только в нашей душе, поскольку мы можем сознавать свое превосходство над природой в нас, а тем самым и над природой вне нас (насколько она на нас влияет)»⁴.
И вот не циник, не безразличный, но именно человек, слышащий обещание красоты, оказывается в ситуации невозможности полагаться на красоту с прежней беззаботностью и невозможности опираться на превосходство духа с прежней верой. Ни прекрасное, ни возвышенное для него не умерли, но обнаружили в себе иглу смертности. Они могут быть раздавлены, и эта раздавленность уже принадлежит их времени, времени мира. Человек теряет финальное преимущество духа перед природой и смотрит на нее не как на инобытие этого духа.
Поэтому поэт, любящий поэтов-классиков и поэтов-романтиков, не может по-прежнему исповедовать их художественную идеологию. Можно сказать, в своей мысли Жакоте производит последовательную деидеологизацию «прекрасного и возвышенного», он погружает их в реальность почвы, но не старом консервативно-романтическом смысле. Он наблюдает вещи, в самой своей смертности способные к самоотдаче и не способные потерять достоинство, может быть, потому что никогда к нему не стремились.
В дневниковых записях, составивших книги «Самосева», Жакоте перемежает точные описания того, что видит самым непосредственным образом с мыслью о том, какое искусство нужно (кому нужно? Этим горам, птицам, деревьям, могилам? Ему самому?) и как оно возможно. Как возможны красота и достоинство, переживаемые в самом разрушении, которое причиняет им время (не только время-хронос, но и вполне конкретное историческое время с его конкретным злом) и, более того, включающие силу этого разрушения в свой состав? Как без построения и эксплуатации мифа создавать поэзию, сцепленную с реальным, с необходимым составом всякого опыта человека на земле – сопереживающую жизни как таковой? Здесь не миф природы, а сама природная жизнь в своей повседневной неповседневности становится сообщением, вестью. И то, что вообще способно остаться от культуры, также будет частью этой природной жизни:
Вкладываю тебе в руку, которая больше не коснется
ни жесткого, ни нежного земли, этот листок,
словно крылышко, словно стрелку еле читаемого указателя,
словно путеводную нить, светильник или обол;
у которого нет ничего против прожорливости пучины,
кроме силы невидимого. Всё, что он говорит,
лишь вызов громыханью разрухи, – вызов
того, что незримо, во что нельзя верить, чего нельзя утверждать,
ни напрямую, ни в образе, и чтó все-таки я
дарю тебе. Записанное на нем – будто прерывистый след
какого-то перехода в сугробах, с единственной вестью:
что нет улыбки, которая не была бы стёсана,
что улыбка рождается лишь под топором
времени.⁵
В этом стихотворении отчаянье растет к финалу, усиливаясь приближением к огненному центру мира:
Так ли будут чисты наши слезы,
чтобы путь проложить в этих землях?
А что, если уже ни земель, ни путей,
ни ночи, что предстоит пережить, – если уже
нет ни земли, ни дня, ни расстоянья?
Если высох источник слез?
Если ветер – даже не ветер, а буря,
а лучше сказать, буря из бурь
уносит самые малые речи,
их шептавшие губы, и лица,
тянувшиеся к нежности их, если и нежность саму
если самое их унесенье уносит,
будто огонь, что обрушился на себя
и растерзал память огня, имя огня,
и даже возможность огня;
если море уходит из моря, если миры –
все – сворачиваются, как палатка снявшегося бивуака?
Кто в силах еще говорить, когда нет больше воздуха?
Никто прежде нас не мечтал настолько слепою мечтою
и ближе не видел настолько безмерный разлад.
Но идущая ниже запись не просто комментирует это отчаянье, но прибавляет к нему что-то еще:
«То, что постигается в истощении, в исчезновении. Дерево, сгорающее в огне. Во мне, моими устами, всегда говорила лишь смерть. Вся поэзия – голос, отданный смерти. Чтобы наше разрушение ликовало, торжествовало. Чтобы сияло, чтобы трубило наше поражение.
Если бы я не двигался к концу, то не обладал бы взглядом.
Кружащие или стрелой падающие птицы, вас видит лишь тот, кто смертен, кто, изнемогая, помалу опускается в прах.
Взгляд и голос разрушаемого».
Но Жакоте говорит от лица такого разрушаемого, жизнь которого как бы сопутствует его разрушению, голос которого опевает это разрушение, сообщая, что и оно – его жизнь.
В замечательном позднем эссе «Свет богоматери» Жакоте пытается прояснить свою «экзистенциальную позицию», находя отделенное подобие в увиденном по телевизору европейском журналисте, которому разрешили покинуть подземную тюрьму Асада. Уходя прочь по тюремным коридорам, он слышит крики пытаемых. Тот, кто увидит свет, в этом свете увидит тех, что на свет не выйдут.
Да, автор этой поэзии – созерцатель, не деятель и не жертва; его травма – это травма свидетеля, но именно свидетельствовать он и призван. Не удивительно, что ему оказывается близок такой же свидетель загробной вечности вещей – художник Моранди, которому Жакоте посвящает эссе «Чаша паломника».
Свидетельство – позиция, смысл которой уязвим, но пока не исчерпан. Человек, несводимый к собственной судьбе, всегда еще и свидетель, и именно эта его способность иногда может оказаться самой ценной. Свидетель забывает о себе не для того, чтобы воздействовать на мир, а для того, чтобы мир смог показать, какой он есть. И вдруг в простом обнаружении того, что есть, поселяется надежда, старая, но ставшая абсолютно новой:
Птица выпорхнувшая из кузни
В послеполуденной пыли
в запахе навоза
в освещении здешних мест
Если тебе удалось
заметить это не понимая
перед тем как покинуть селенье
Разве не было это
совсем бессмертным?⁶
Само существование созерцающего эту жизнь должно стать свидетельством о том, чего он не может исполнить.
1 – Филипп Жакоте, «Самосев», октябрь 1956; в переводе Петра Епифанова.
2 – Из книги «Птицы, цветы и плоды»; Жакоте Ф. В комнатах садов / В переводе Ольги Седаковой. М. : Арт-Волхонка, 2014.
3 – Эта и другие цитаты — из неизданного перевода «Самосева» Жакоте, осуществленного Петром Епифановым. Благодарю замечательного переводчика, поделившегося им со мной.
4 – Кант И. Критика способности суждения// Сочинения в 6-ти т. Т. 5. М.: 1966. С. 272-273.
5 – «Самосев», ноябрь 1959.
6 – Из книги «Птицы, цветы и плоды»; Жакоте Ф. В комнатах садов / В переводе Ольги Седаковой. М. : Арт-Волхонка, 2014.