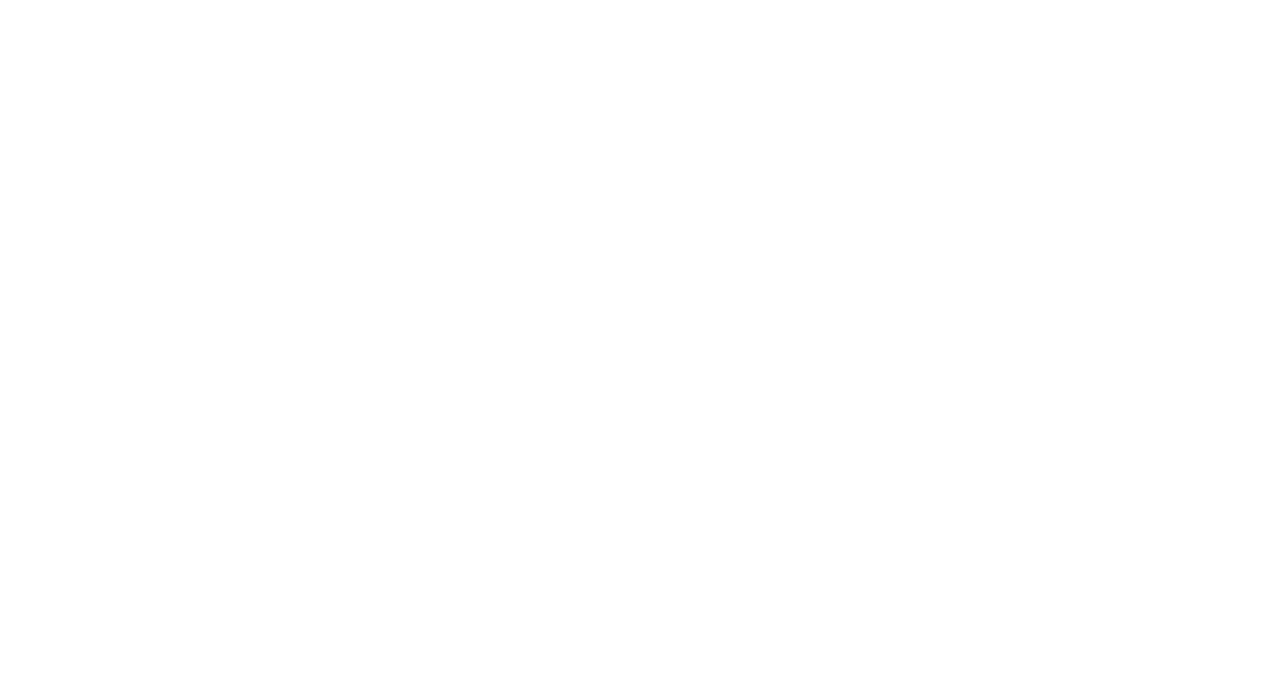Женщина как божество
в поэтике Леонида Аронзона
в поэтике Леонида Аронзона
Нурия Розалиева
И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
(Быт. 1:27)
Свою поэтическую задачу Леонид Аронзон формулировал так: «Материалом моей литературы будет изображение рая <…> как выражение мироощущения, противоположного быту»1. И действительно, осмысление рая как пространства, пронизывающего мир человеческий, мир земной, и проникнутого Божьим присутствием, становится основой мировосприятия его лирического субъекта.
Такой взгляд характеризуется, прежде всего, религиозным восприятием реальности, в котором мир предстает сквозь призму символической образности, эмоциональной включенности и чувственного переживания. Рациональное осмысление действительности здесь органично сосуществует с глубокой верой в трансцендентное. Чудесное не противопоставляется реальному, но интегрируется в структуру как природного, так и человеческого бытия, становясь его естественной составляющей. Симптоматической чертой художественного мира, выстроенного через такую призму, является пограничность. Часто читатель обнаруживает, что художественный мир Аронзона действует в переходные моменты – утро, закат, август, смерть – то есть в тех состояниях времени суток, которые являются своего рода «окнами» в трансцендентное. Пограничность одновременно отражает и внутреннее состояние субъекта, и структуру мира, где время и пространство сливаются. Являясь одним из онтологических состояний природы и человека, она становится также формой сопричастности, единения поэта с Богом, обретая выражение в мотиве смерти, пронизывающем поэтическую реальность Аронзона, в которой пребывание между бытием и небытием характеризуется, с одной стороны, восторженным подъемом, а с другой – умиротворением, возникающим как следствие прикосновения к божественному.
Подобное отношение к чудесному, по-видимому, обусловлено иной глубинной основой религиозного сознания лирического «я» – детскостью восприятия веры и Бога. Во многих поэтических текстах Аронзона прослеживается стремление воспроизвести наивный, детский взгляд на мир, что перекликается с евангельским наставлением человеку стать подобным ребенку, быть «как дети» – «и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»2. Этим объясняется и своеобразие поэтики Аронзона: для восприятия его текстов не обязательно углубленное распознавание интертекстуальных отсылок. Поскольку обращение к «истинному быту нашему»3 опирается прежде всего на один центральный источник – Священное Писание, взаимодействие с литературной традицией сохраняет значение, но играет скорее второстепенную, фоновую роль. Потому и настоящее время неразрывно связано у Аронзона с библейским – это время единое, слитное, обращенное во «время Господне», в котором существуют одновременно Бог, библейские образы, лирический субъект и его возлюбленная. Примером здесь может служить сюжет об апостоле Петре, встроенный в стихотворение «Все стоять на пути одиноко, как столб…» (1962) посредством образного ряда (костел, сады, холмы, рыбы, крылья, Бог), наталкивающего на возникновение библейской интерпретации, и строк «Между разных костров – все одна темнота» (именно около костра происходит второе отречение апостола Петра от Христа: «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. <…> Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет»4) и «новолуние бед» (которое, как кажется, и маркирует само тройное отречение Петра). Сюжет об отречении вплетается в хронотопическую организацию текста Аронзона, еще раз обозначая характер художественного времени в поэзии Аронзона – непрерывного, священного, вечного.
Так, осью мировосприятия лирического субъекта является ощущение неразрывной связи «всего со всем» – сопряженности чудесного, мифологического с обыденным, божественного, возвышенного – с бытовым, сниженным, – видения мира посредством живого, «первозданного» взгляда на мир, чувства, перекликающегося с пантеистическим представлением о единстве Бога и Вселенной.
В поэтическом восприятии Аронзона, следовательно, и образ женщины – даже: особенно образ женщины, что заметно исходя из предыдущей главы – приобретает сакральное и божественное значение, обретая черты мистического и трансцендентного начала.
Прежде всего, сам лирический субъект называет возлюбленную, помимо прочего, «богиней» и «ангелом». Так, в тексте «Красавица, богиня, ангел мой…» (1970) это ее именование утверждается с помощью повторения и закольцовывания: начинается текст со строки «Красавица, богиня, ангел мой», а заканчивается строкой «красавица моя, моя богиня», при этом столь особый оттенок ее образу придает и совмещение характеристик, делающих ее принадлежной к противоположным началам: «Я знал тебя блудницей и святою». Возникновение жены в жизни лирического субъекта здесь действительно предстает как настоящее чудо, подобное тому, что описывает А. С. Пушкин в стихотворении «К *** (Я помню чудное мгновенье…)»5 – сравним: «я счастлив оттого, что я не умер / до той весны, когда моим глазам / предстала ты внезапной красотою» у Аронзона и «Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты, / Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты» у Пушкина. Ее красота и называние «красавица» встает в один ряд с божественностью и ангеличностью, даже – утверждает эти обозначения. Примечательно здесь, что подобная образность обращает на себя внимание уже при первом прочтении избранного нами корпуса текстов. Так, в соседстве с образом женщины образ ангела возникает четыре раза («Видение Аронзона. Начало поэмы» (1968), «Вспыхнул жук, самосожженьем…» (1968), «Красавица, богиня, ангел мой…» (1970), «О, Азии презенты ― анаша…» (1970)), а упоминание Бога или производных от него слов – восемь («Послание в лечебницу» (1964), «Дщерь пауз осени, строй тела…» (1964), «Беседа» (1967), «Светло в Таврическом саду…» (1968), «Мое веселье ― вдохновенье…» (1969), «Пустой сонет» (1969), «Красавица, богиня, ангел мой…» (1970), «О, Азии презенты ― анаша…» (1970)).
Более того, божественное происхождение женщины утверждается у Аронзона не только на уровне характеристики и прямого описания, но и с помощью ее причастности к творению мира, окружающего ее и лирического субъекта. Сам Аронзон, согласно записи одной из его бесед с Бродским, считал, что «Бог совершил только один поступок – создал мир. Это творчество. И только творчество дает нам диалог с Богом»6. Именно в таком диалоге с Богом находится в художественном мире Аронзона женщина. Словно вослед библейским строкам «И сотворил Бог человека по образу Своему», адресатка стихотворения «Послание в лечебницу» (1964), подобно Богу, становится творительницей мира и природы. Природа, лирический субъект и непосредственно адресатка стихотворения здесь оказываются в сложном сплетении ролей, взаимовлиянии и со-творении. И она, и ручей рисуют имя адресанта на песке, при этом не она сравнивается с ручьем, а наоборот: «В пасмурном парке рисуй на песке мое имя, <...> Вот он [ручей – Н. Р. ] петляет вдоль мелколесья, рисуя имя мое на песке, / словно высохшей веткой, которую ты держишь сейчас в руке. <...> мое имя, как ты, мелколесьем петляя, рисует случайный, небыстрый / и мутный ручей». Пока героиня идет вдоль ручья, он пишет имя, «образуя ландшафты» – словно природа и творится лишь в этом движении, словно все мироздание концентрируется вокруг нее: «ты идешь вдоль ручья по сырому песку, / вслед тебе дуют флейты, рой бабочек, жизнь тебе вслед» – не только его составляющие, но сама жизнь. Как кажется, подобный мотив может в том числе восходить к стихотворению Ф. И. Тютчева «Alter ego»7, в котором возникают и образы ручья, и женщины, связанные с рождением творчества/текста («Как лилея глядится в нагорный ручей, / Ты стояла над первою песней моей, / И была ли при этом победа, и чья, / У ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья?»), и тема смерти, и мотив божественности женщины и лирического субъекта («И я знаю, взглянувши на звезды порой, / Что взирали на них мы как боги с тобой»).
Наконец, оказывается, что и ручей создается ею: «где ты высохшей веткой рисуешь случайный, небыстрый и мутный ручей, <...> ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь и идешь» – и этим завершается текст, словно утверждая адресатку именно в этой роли – творительницу не только слова (имени адресанта), но и природы вообще, а значит, уподобленной в этой роли Богу, сотворившему мир и человека, наделенного способностью к творчеству.
Важно, что даже в некоторых текстах, где женщина не (со-)творит мир, он, уже созданный или создающийся, так или иначе оказывается предназначенным для нее. В тексте «Рек: цепенение стрекоз!» (1964), посвященном Инне Полотовской, лирический субъект словно сотворяет мир/природу посредством слова (мир как текст – важный для поэтического мировосприятия Аронзона аспект), уподобляясь времени года: «Как осень из собранья пауз / я строю слово для тебя, / в котором сад ― наброски позы…». В свою очередь, в «Мадригале» (1966), посвященном уже Рите Пуришинской, шмель «делая мой слог велеречив, / гудит над вами, тонко вас сравнив» – здесь уже сама природа словно помогает лирическому субъекту прославлять свою возлюбленную. Он, в свою очередь, именно природу, мир благодарит за присутствие жены в его жизни: «благословляю всю природу / за то, что ты вошла в мой дом!» («Хандра ли, радость ― все одно…», 1968 – стихотворение также посвящено Рите).
Наконец, в «Пустом сонете» (1969) – одном из образцов визуальной поэзии Аронзона (см. Приложение 3) – образ любимой женщины и Бога сходятся воедино. Как верно отмечает Кирилл Корчагин, лирический субъект этого текста «обращается к возлюбленной, но за этим обращением можно увидеть хвалу божеству, устроившему мир по высшему замыслу»8 – при этом, на наш взгляд, здесь не только одно стоит за другим, но сознательно входит одно в другое (подобно тому как лирическое «я» желает «проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас»). Не зря он взывает: «Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже», желая, чтобы Бог сохранил возлюбленную, и говорит о траве как о ложе «нам», что также указывает на возлюбленную, и при этом начинает форму местоимения «вас» со строчной буквы, в отличие от других обращений, где использует заглавную – словно вписывая таким образом и возлюбленную, и Бога в одно целое. Потому и «вы» – стоят в садах, являют собой вид ночной травы и ручья; а сад полнится «вашими» ночными голосами. Примечательна также строка «Лицо полно глазами», в которой возникает образ лица, знаменательный для Аронзона и связанный в его художественном мире с образом Бога9.
Анализируемый текст при этом очевидно сопоставим со стихотворением Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может…»10 (как видим, в любовной лирике Аронзона особенно явно проступает обращение к пушкинским текстам): схожесть их выявляют и прошедшее время («Я вас любил» у Пушкина и «Кто вас любил восторженней, чем я?» у Аронзона), и обращение к Богу с просьбой хранить возлюбленную – у Аронзона («Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже») и пожеланием ей блага быть любимой – у Пушкина («Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай вам бог любимой быть другим»). Интертекстуальная связь, таким образом, также обнаруживает соседство божественного и образа женщины.
Так, женщина в художественном мире Аронзона занимает особое место, если не равное Богу, то сопряженное с ним: он оказывается явлен во всем, в том числе – и в ней, и в лирическом субъекте. Она – не только возлюбленная, но и богиня, ангел, творящая природу и мир, соавтор поэтического мироустройства, отражение Божьего начала в земном. Сквозь призму религиозного и трансцендентного восприятия реальности, характерного для всего творчества поэта, образ женщины обретает черты сопричастности божественному замыслу, творению и самому Богу. Именно в ней и через нее осуществляется диалог человека с Творцом, а значит, постижение мира, любви и самой жизни в подлинной, высшей форме.
1 – Аронзон В. Л. Леонид Аронзон – «Поэт райской памяти» // Новый свет. 2014. №1. URL: https://clck.ru/3B9aBb.
2 – Мф. 18:3.
3 – Аронзон Л. Собрание произведений: в 2 т. Т. 1.
4 – Ин. 18:15-25.
5 – Пушкин А. С. К *** («Я помню чудное мгновенье...») // Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 2. Стихотворения 1823–1836. М.: ГИХЛ, 1959–1962. С. 89.
6 – Юрьев О. А. Об Аронзоне (в связи с выходом двухтомника) // Новая камера хранения. URL: http://www.newkamera.de/jurjew/ojurjew_10.html (дата обращения: 18.05.2025).
7 – Фет А. А. Alter ego // Фет А. А. Лирика. М.: Художественная литература, 1966. С. 115.
8 – Корчагин К. Леонид Аронзон и сонет по краям страницы // Arzamas. Журнал. URL: https://arzamas.academy/micro/visual/15 (дата обращения: 18.05.2025).
9 – Вспомним в этой связи стихотворение «Все лицо: лицо – лицо…» (1969):
Все лицо: лицо – лицо,
Пыль – лицо, слова – лицо,
Воз – лицо. Его. Творца.
Только сам Он без лица.
10 – Пушкин А. С. «Я вас любил: любовь еще, быть может…» // Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 2. Стихотворения 1823–1836. М.: ГИХЛ, 1959–1962. С. 259.