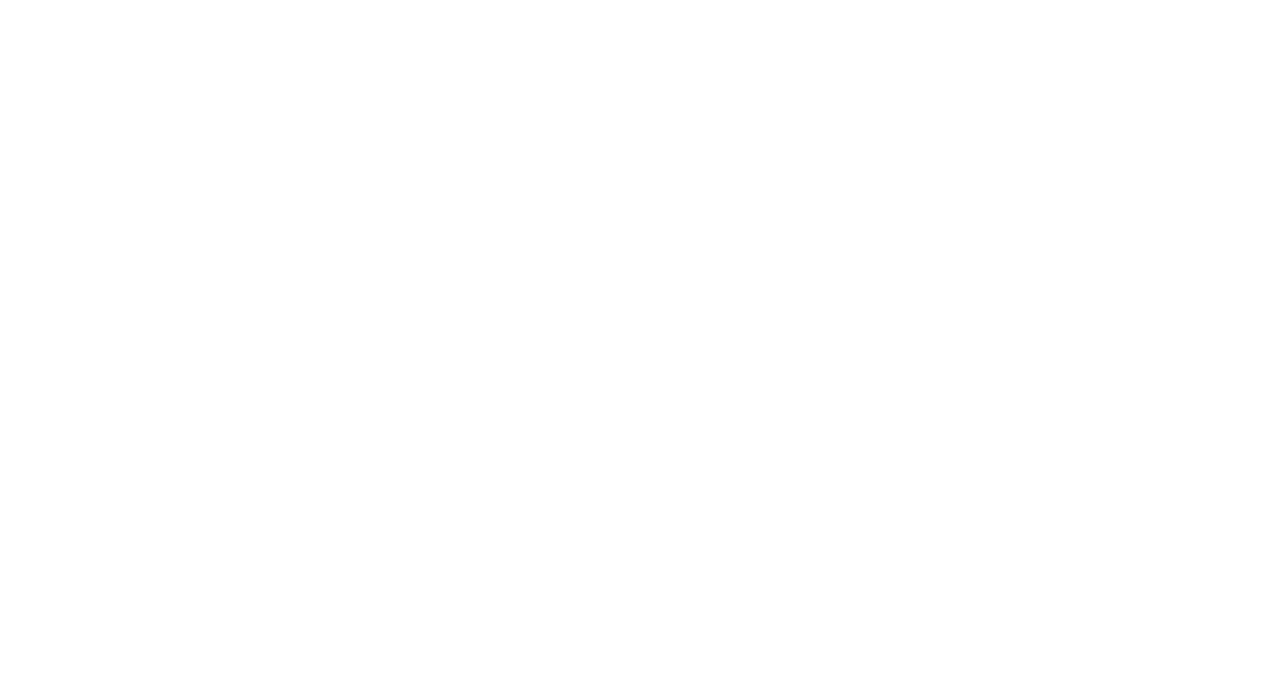эссе
Наполненнная снегом пустота
Дарья Хохлова
Белый цвет как символ чистоты. Сугроб – вордовского ли, бумажного ли – листа... На нем лепить (нелепые ли?) буквы – дело рискованное. Запачкать снег несуразным словом – страшно.
Белизна сама по себе может стать завершенным художественным высказыванием. Или, по меньшей мере, его центральной частью, как это происходит в «Пустом сонете» Леонида Аронзона. Что важнее всего для героя этого текста? Разумеется, его возлюбленная. Она и стоит в центре – чистая, идеальная – как снег.
Белизна сама по себе может стать завершенным художественным высказыванием. Или, по меньшей мере, его центральной частью, как это происходит в «Пустом сонете» Леонида Аронзона. Что важнее всего для героя этого текста? Разумеется, его возлюбленная. Она и стоит в центре – чистая, идеальная – как снег.
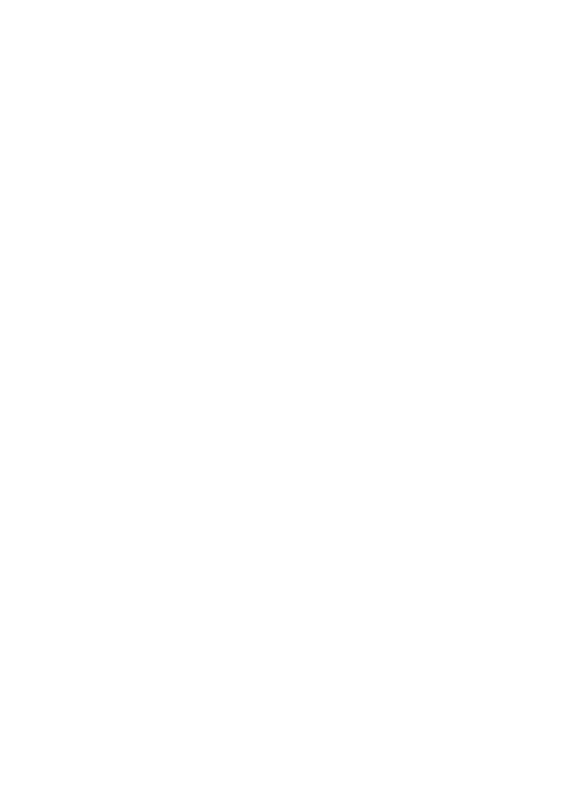
Но что есть слова – черные, криво написанные, белоснежность окружившие? Что есть переплетения буквенных частей? – решетки. Ограждения, колючая изгородь. Кого же ограничивает она – адресата? Но разве посмел бы так поступить с нею герой, чья речь пронизана трепетом? Нет, ограничения эти – для самого себя. Не посметь подступиться к милой, не наследить на ее безупречном снегу.
На первый взгляд, это вступает в противоречие с фразой, в которой можно разглядеть в том числе неплатонический оттенок: «Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас...». Но если мы вернемся построчно немного назад, то увидим многозначительный, горечью пропитанный повтор: «Хотел бы я, хотел бы я...». Хотеть – не значит сделать. Можно желать что-то, кого-то – но четко осознавать невозможность осуществления. И стоять перед этой невозможностью – стоять с разливом слез в озерном взоре («Лицо полно глазами...»). Самое возвышенное, что есть в герое, он лелеет ради возлюбленной («Чтоб вы стояли в них, сады стоят»).
Герой абсолютно уверен в невыполнимости (эхом – невосполнимости...) своей грезы, он видит внутренние противоречия, не прячется от них: «Хотел бы я, хотел бы я свою печаль вам так внушить, вам так внушить, не потревожив ваш вид травы ночной, ваш вид ее ручья». Иначе говоря, здесь выражена мечта коснуться, не оставив ни малейшей складки. Но это невозможно. Он это знает – потому и ходит по кругу (или, если быть точнее, по прямоугольнику), движется по собою же созданным границам, не переступая их, наблюдая за любимой издалека.
Снег – яркий, белый – тускнеет, если представить текст этого стихотворения в традиционной форме. Словесные решетки превращаются в сапоги, сминающие чистоту под собой, топчущиеся по ней. Говорят одно, а делают иное. Они становятся повторением достаточно шаблонных («кто вас любил восторженней, чем я», «храни вас Бог» и т.д.) – а потому недостаточно искренних, чтобы убедить самокритичного поэта – фраз:
Кто вас любил восторженней, чем я?
Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже.
Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах.
И вы в садах, и вы в садах стоите тоже.
Хотел бы я, хотел бы я свою печаль
вам так внушить, вам так внушить, не потревожив
ваш вид травы ночной, ваш вид ее ручья,
чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем.
Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас,
поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами
сравнить и ночь в саду, и сад в ночи, и сад,
что полон вашими ночными голосами.
Иду на них. Лицо полно глазами...
Чтоб вы стояли в них, сады стоят.
Но если герой признает всю неловкость этих высказываний, если он подчеркивает их болезненным «не претендую» – когда автор при помощи формы пропитывает слова пронзающей подлинностью – тогда в это чувство верится легко. Тогда стихотворение становится тем актом творчества, о котором хочется писать, не боясь обвинений в порче листового снега.
На первый взгляд, это вступает в противоречие с фразой, в которой можно разглядеть в том числе неплатонический оттенок: «Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас...». Но если мы вернемся построчно немного назад, то увидим многозначительный, горечью пропитанный повтор: «Хотел бы я, хотел бы я...». Хотеть – не значит сделать. Можно желать что-то, кого-то – но четко осознавать невозможность осуществления. И стоять перед этой невозможностью – стоять с разливом слез в озерном взоре («Лицо полно глазами...»). Самое возвышенное, что есть в герое, он лелеет ради возлюбленной («Чтоб вы стояли в них, сады стоят»).
Герой абсолютно уверен в невыполнимости (эхом – невосполнимости...) своей грезы, он видит внутренние противоречия, не прячется от них: «Хотел бы я, хотел бы я свою печаль вам так внушить, вам так внушить, не потревожив ваш вид травы ночной, ваш вид ее ручья». Иначе говоря, здесь выражена мечта коснуться, не оставив ни малейшей складки. Но это невозможно. Он это знает – потому и ходит по кругу (или, если быть точнее, по прямоугольнику), движется по собою же созданным границам, не переступая их, наблюдая за любимой издалека.
Снег – яркий, белый – тускнеет, если представить текст этого стихотворения в традиционной форме. Словесные решетки превращаются в сапоги, сминающие чистоту под собой, топчущиеся по ней. Говорят одно, а делают иное. Они становятся повторением достаточно шаблонных («кто вас любил восторженней, чем я», «храни вас Бог» и т.д.) – а потому недостаточно искренних, чтобы убедить самокритичного поэта – фраз:
Кто вас любил восторженней, чем я?
Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже.
Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах.
И вы в садах, и вы в садах стоите тоже.
Хотел бы я, хотел бы я свою печаль
вам так внушить, вам так внушить, не потревожив
ваш вид травы ночной, ваш вид ее ручья,
чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем.
Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас,
поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами
сравнить и ночь в саду, и сад в ночи, и сад,
что полон вашими ночными голосами.
Иду на них. Лицо полно глазами...
Чтоб вы стояли в них, сады стоят.
Но если герой признает всю неловкость этих высказываний, если он подчеркивает их болезненным «не претендую» – когда автор при помощи формы пропитывает слова пронзающей подлинностью – тогда в это чувство верится легко. Тогда стихотворение становится тем актом творчества, о котором хочется писать, не боясь обвинений в порче листового снега.