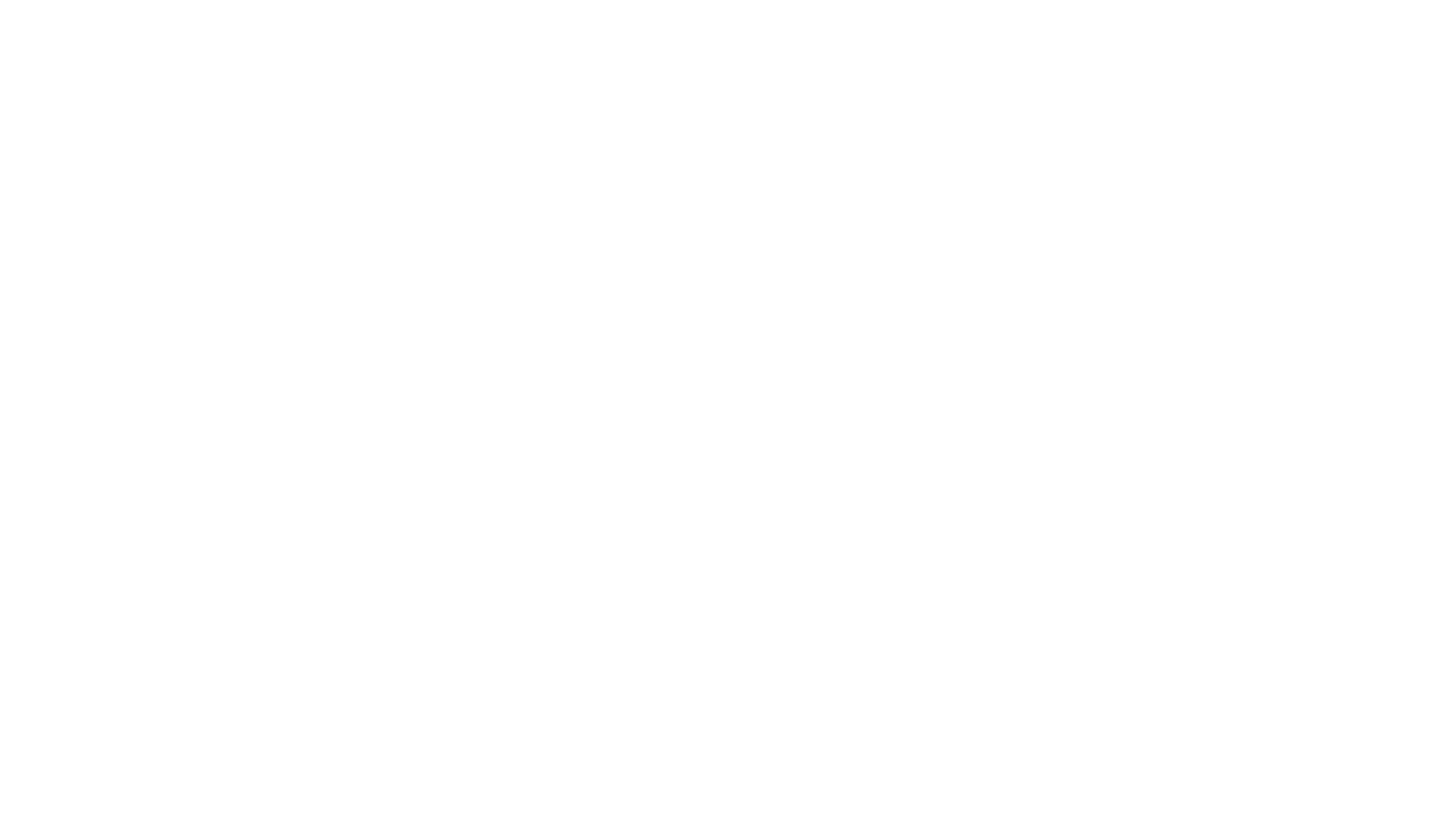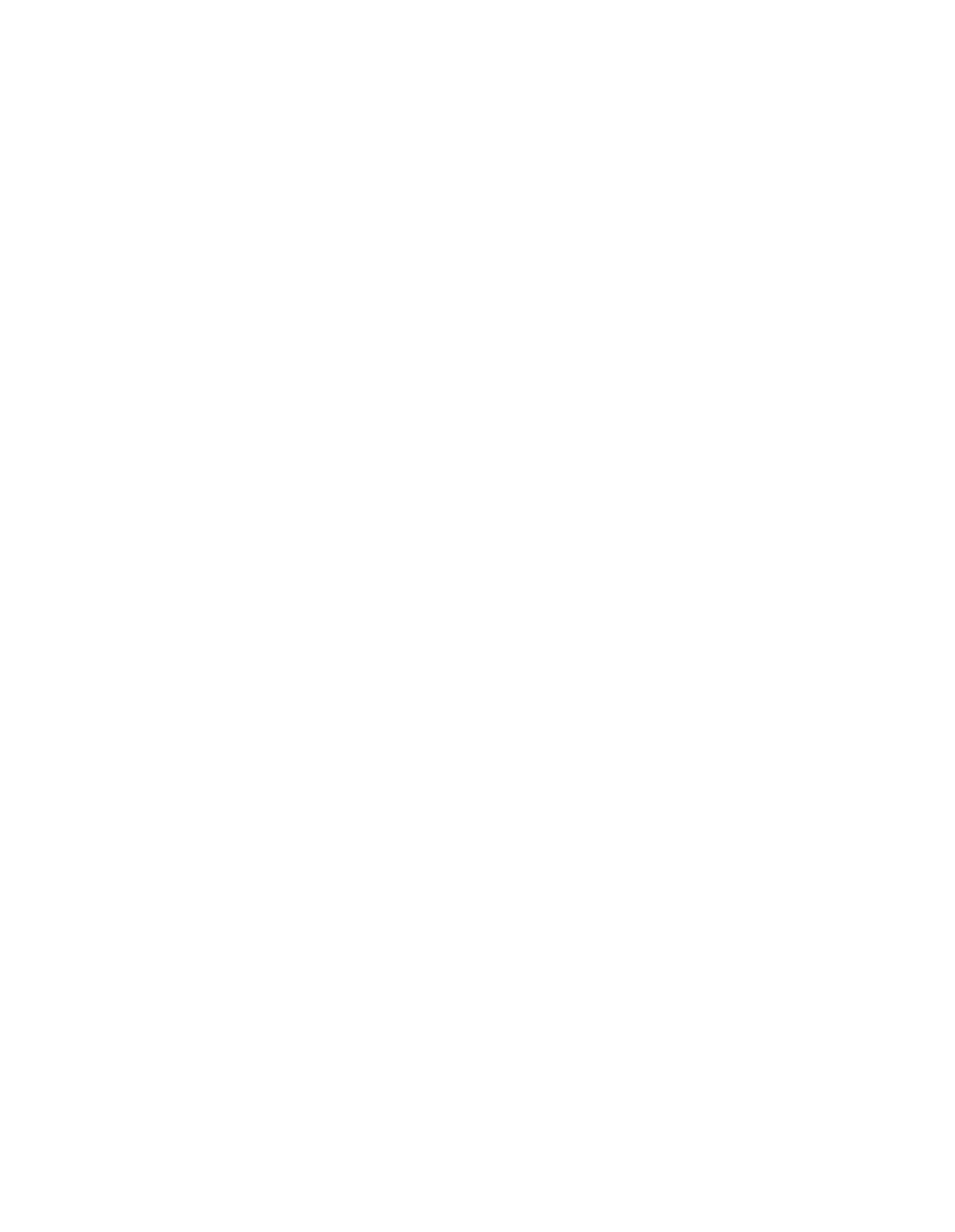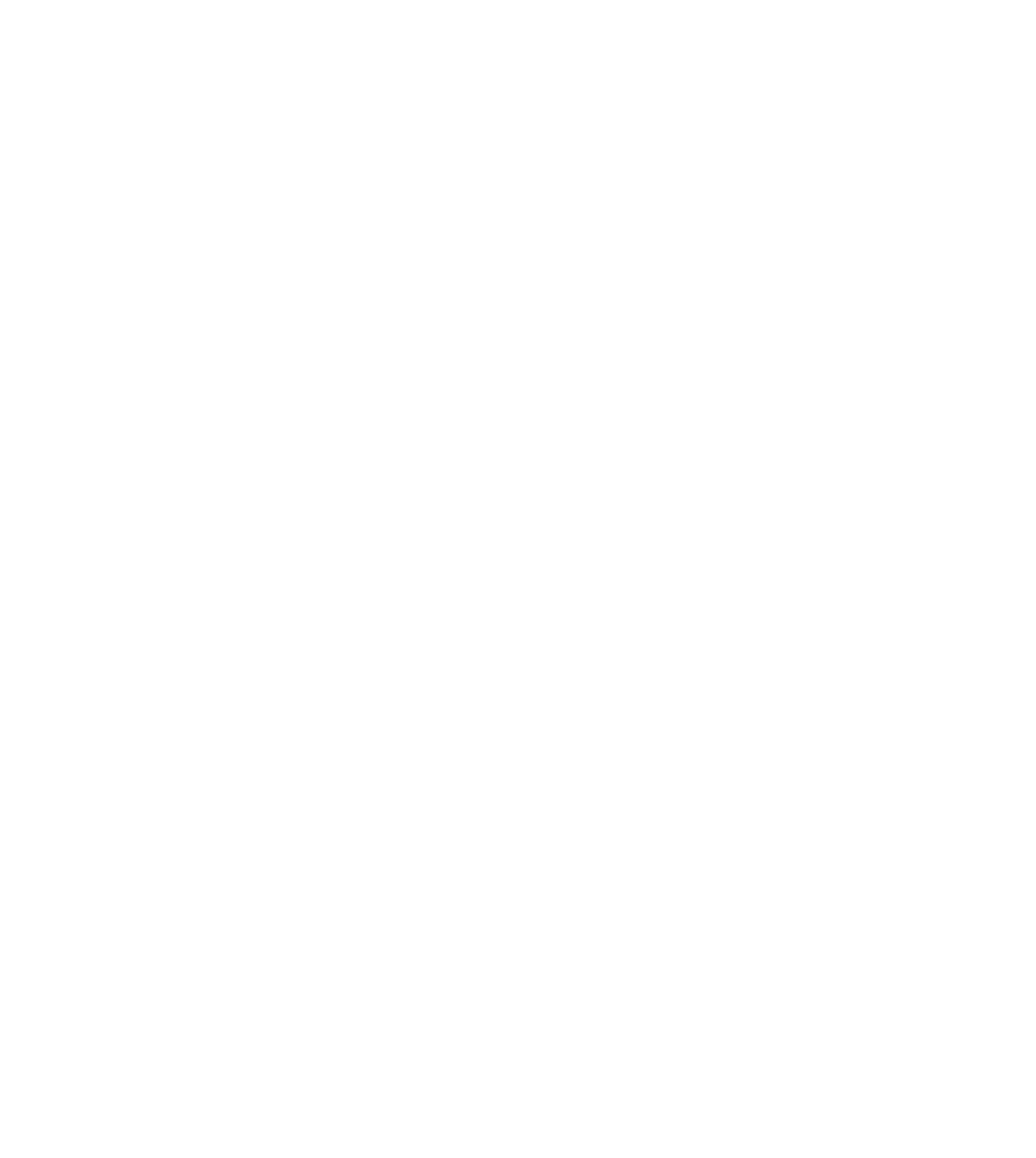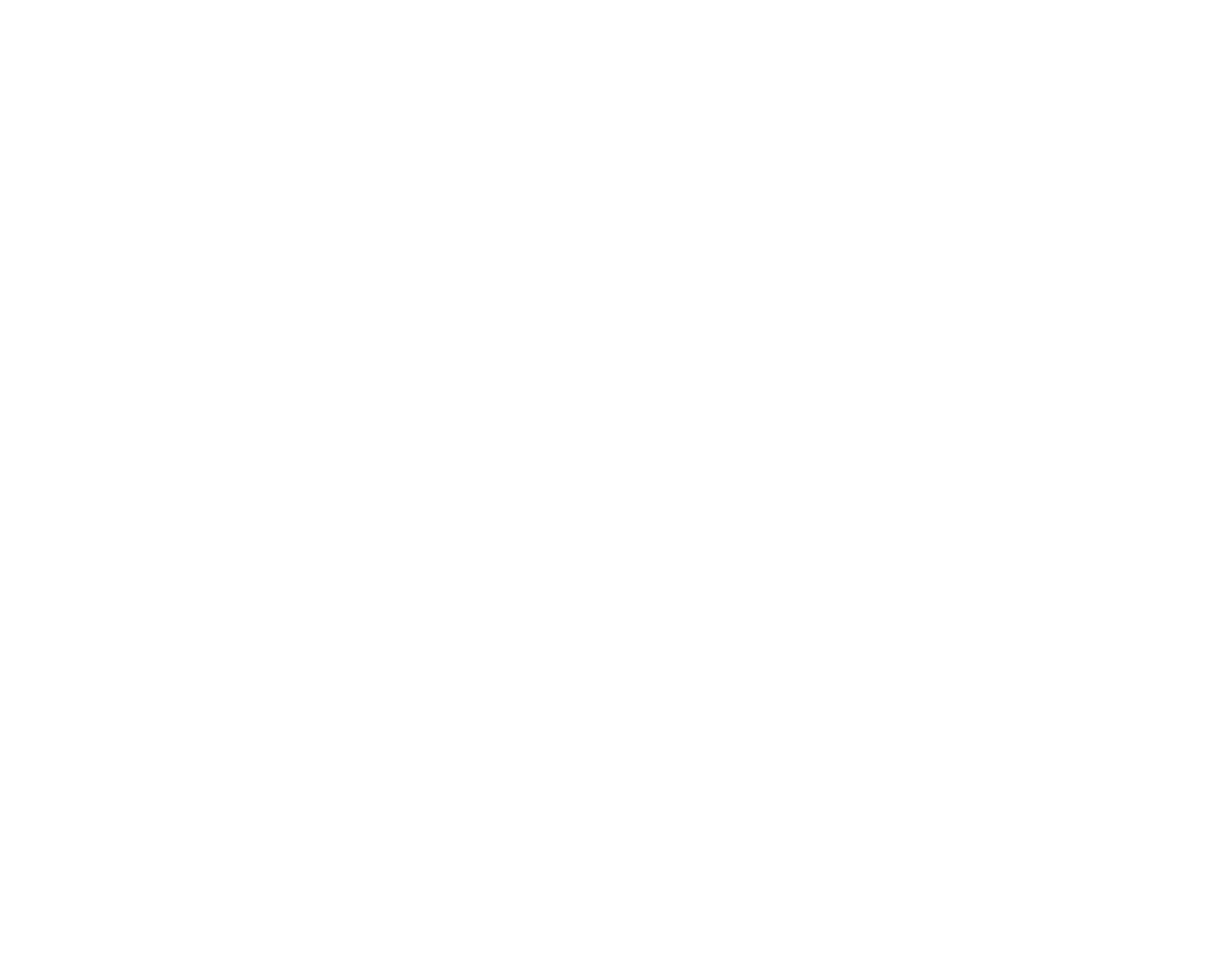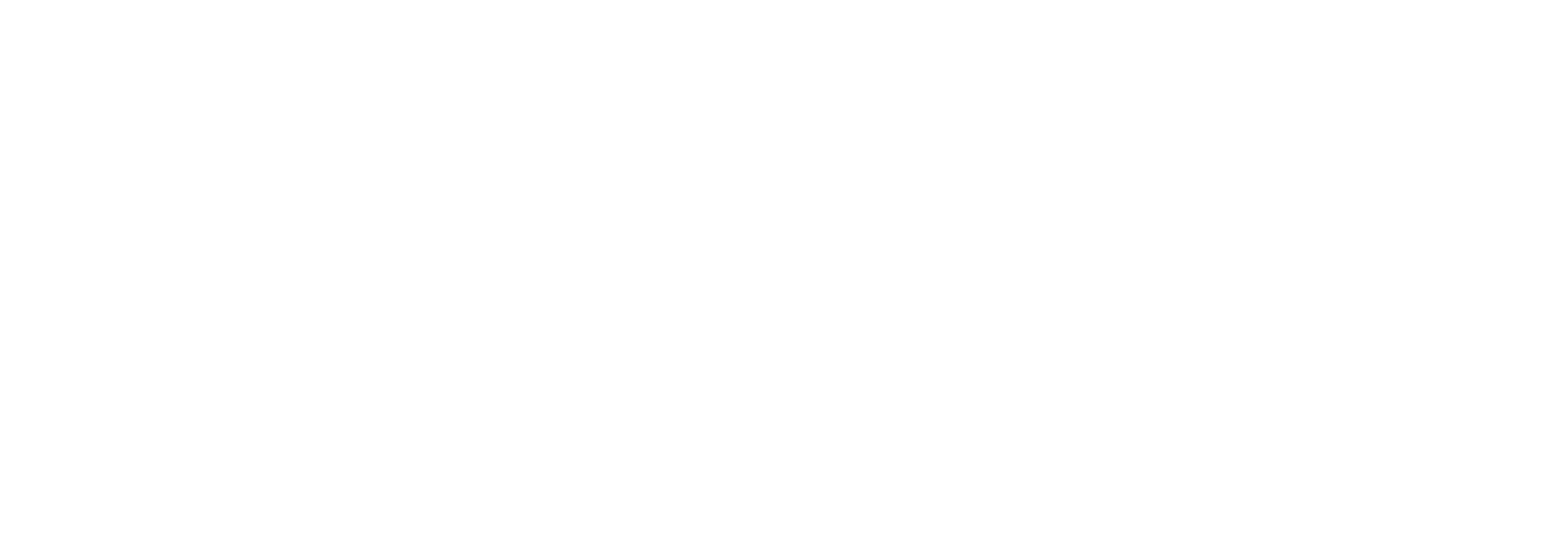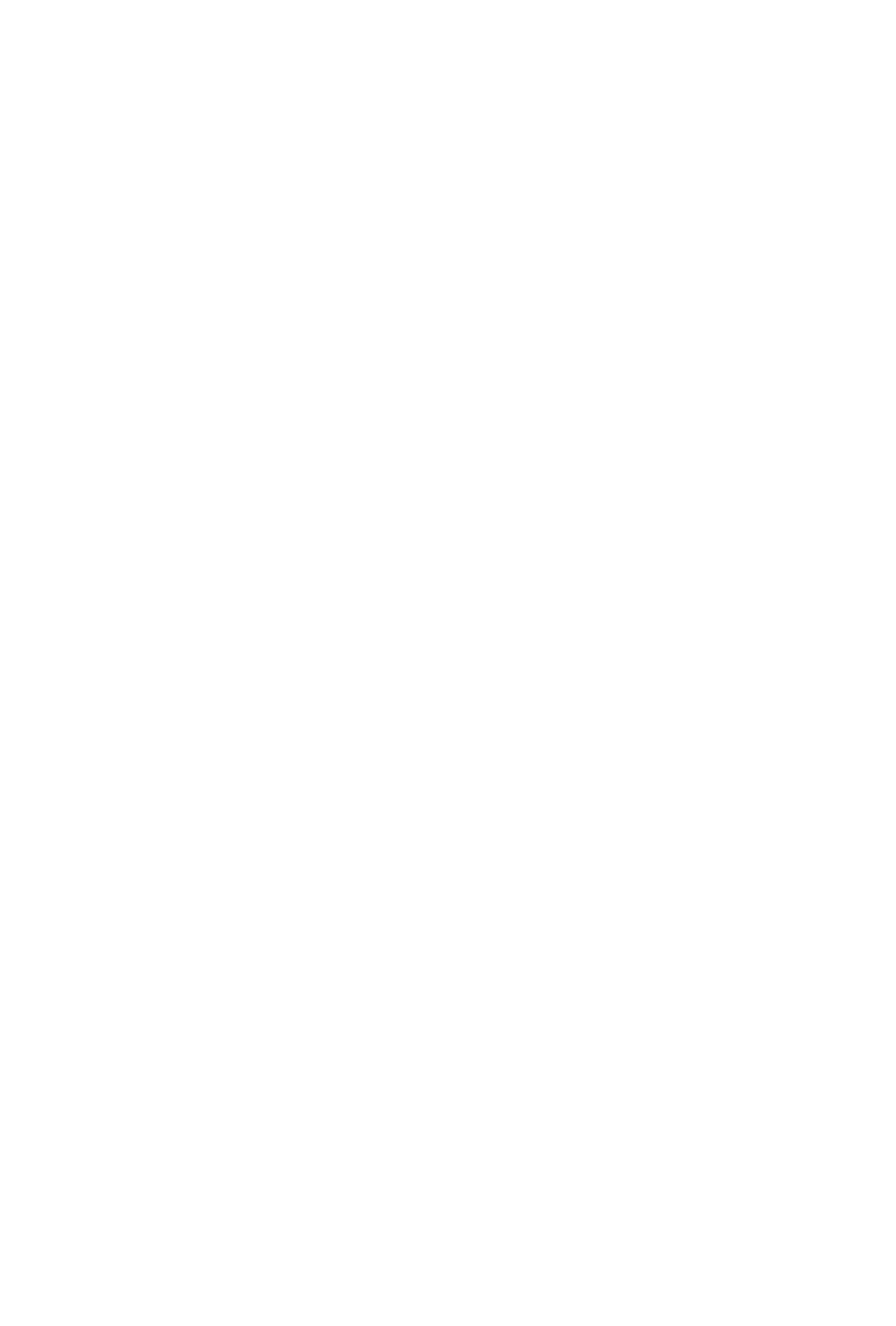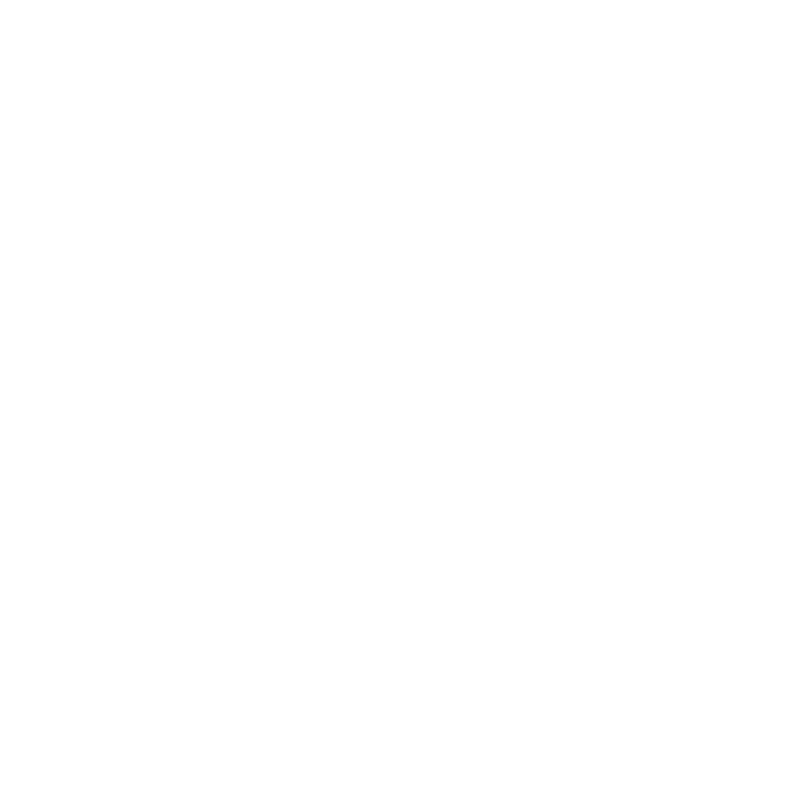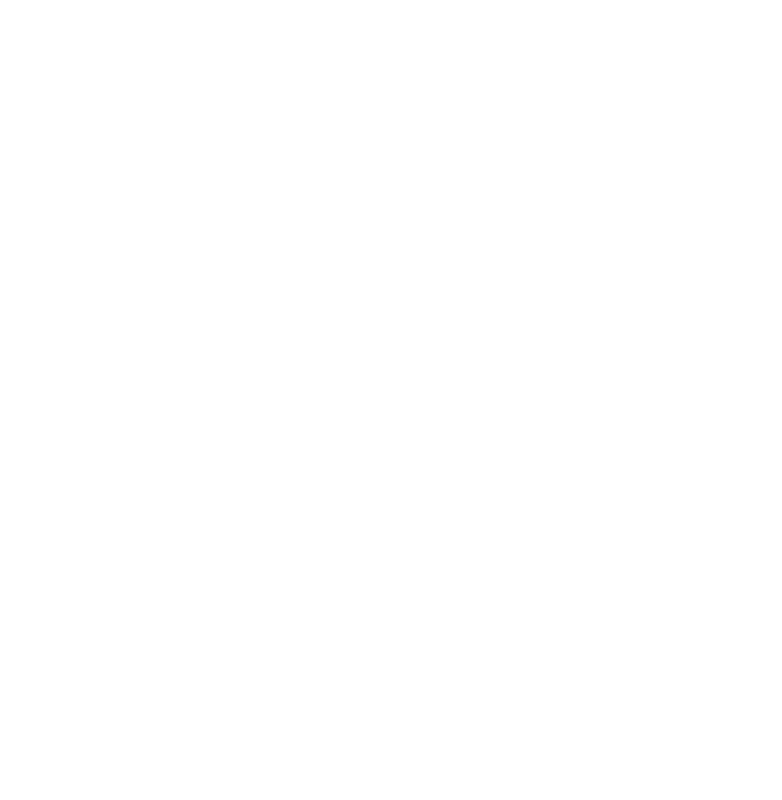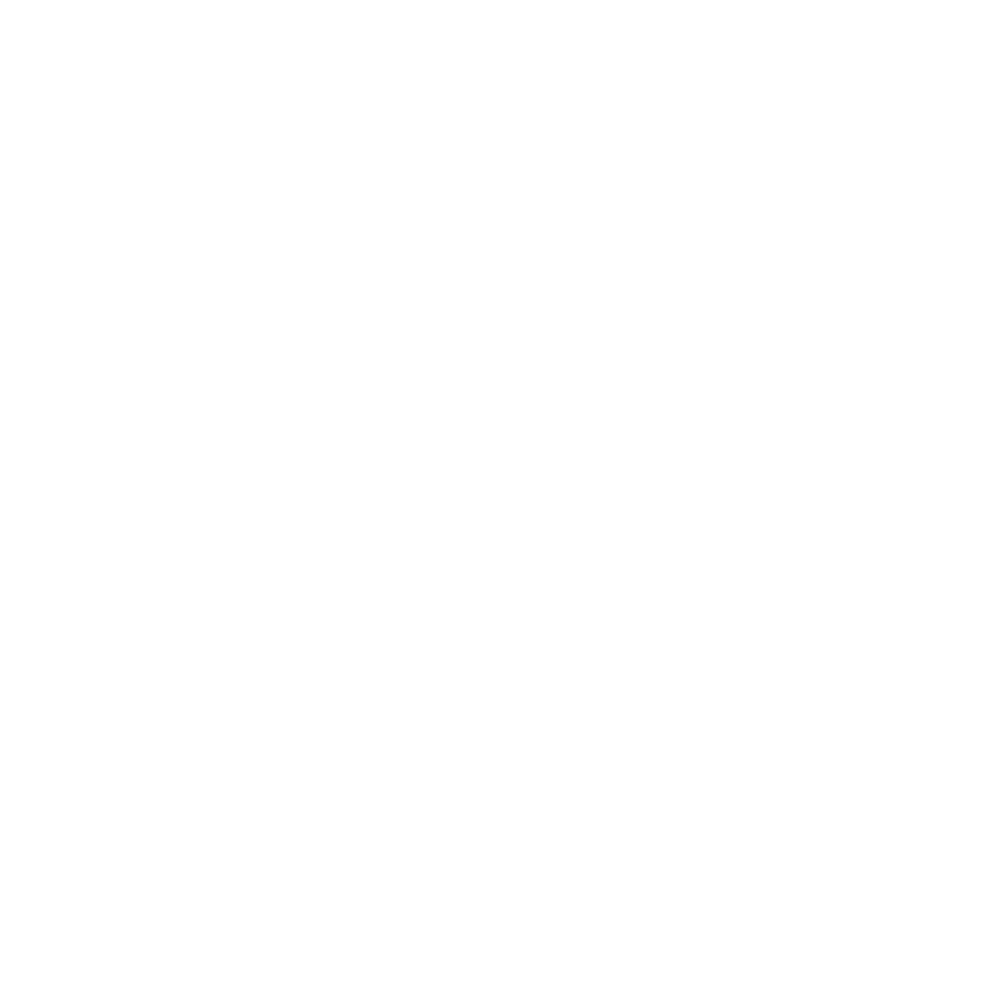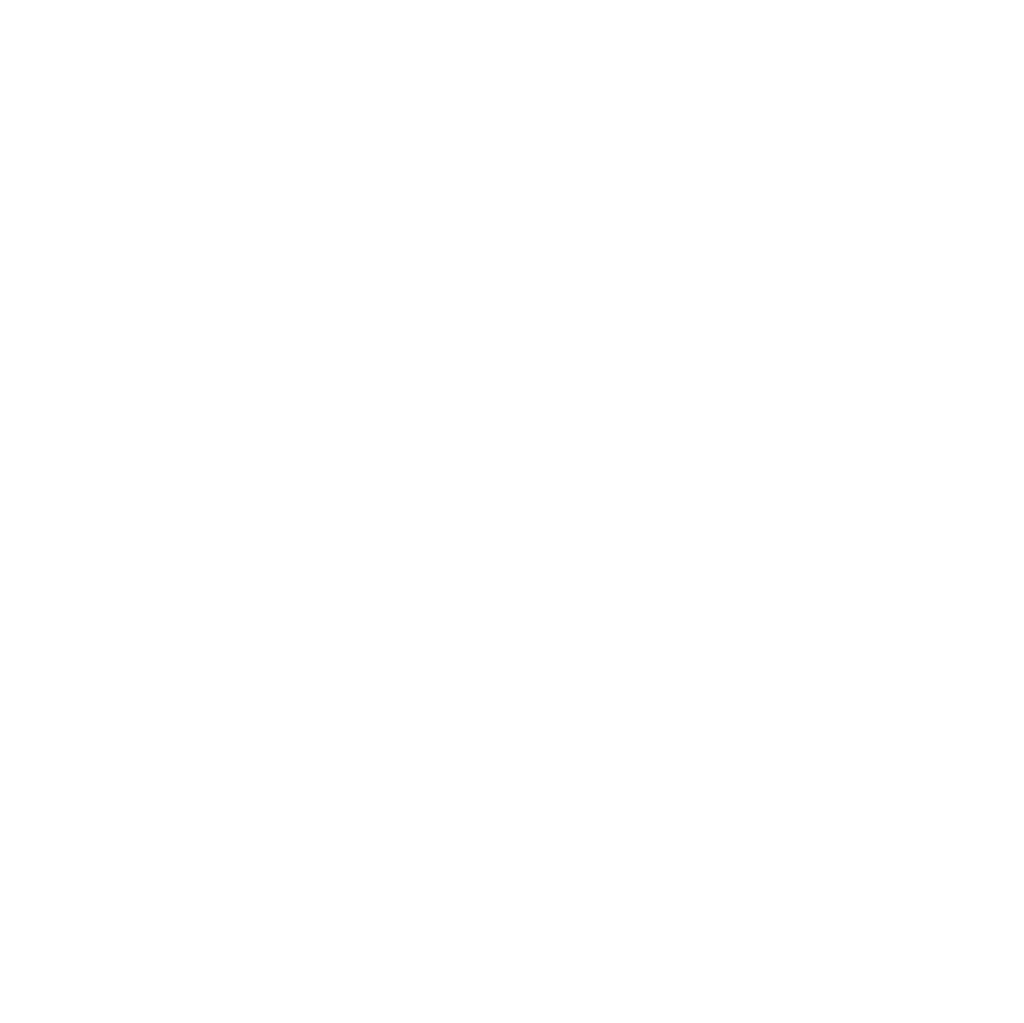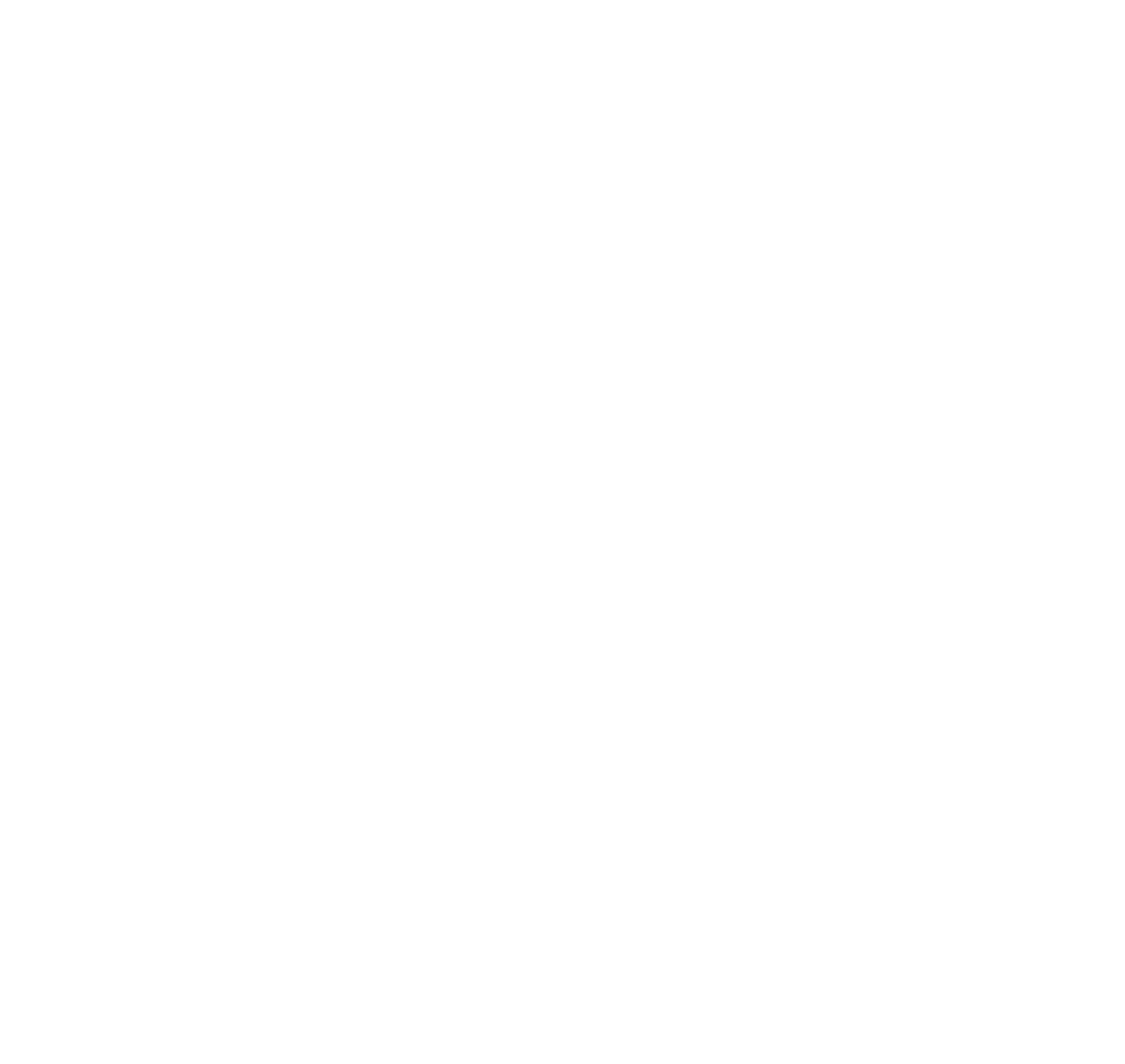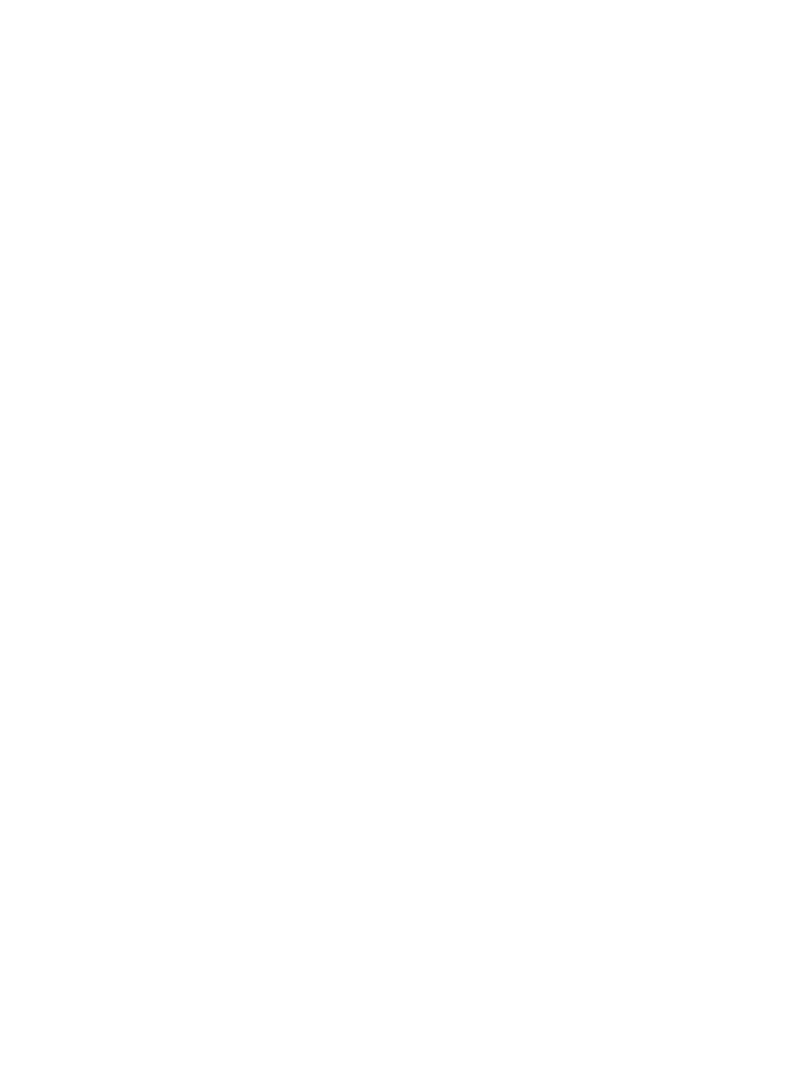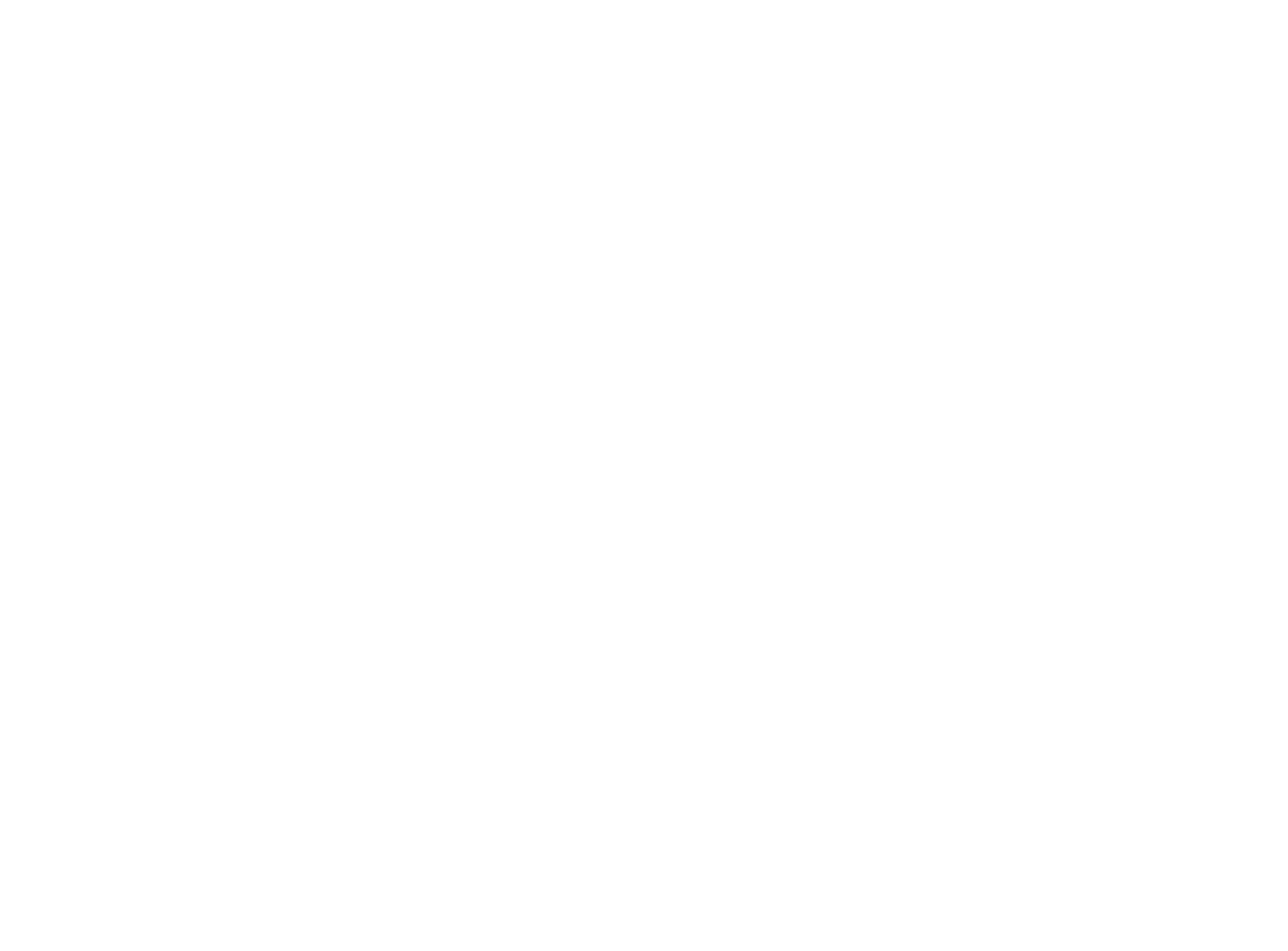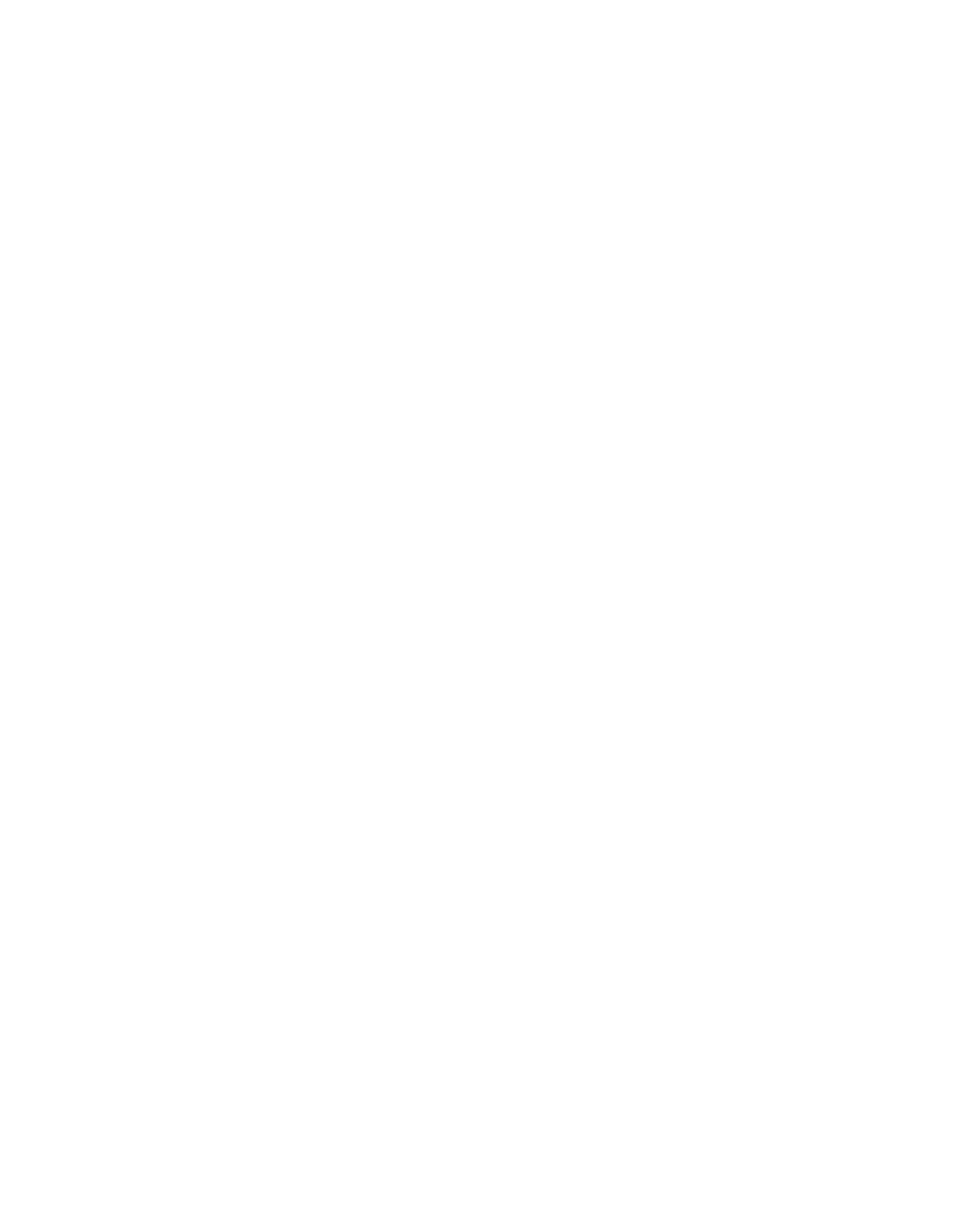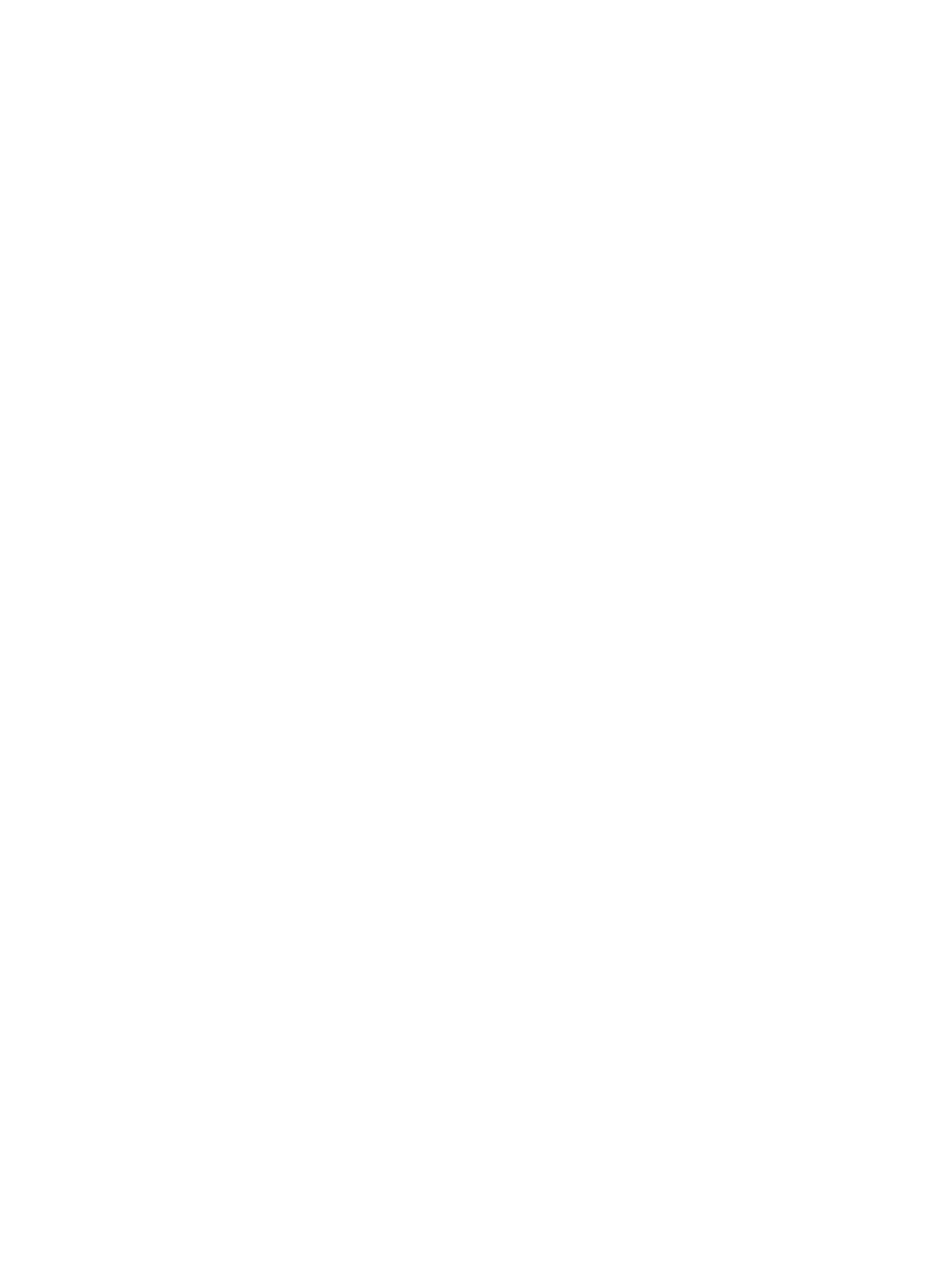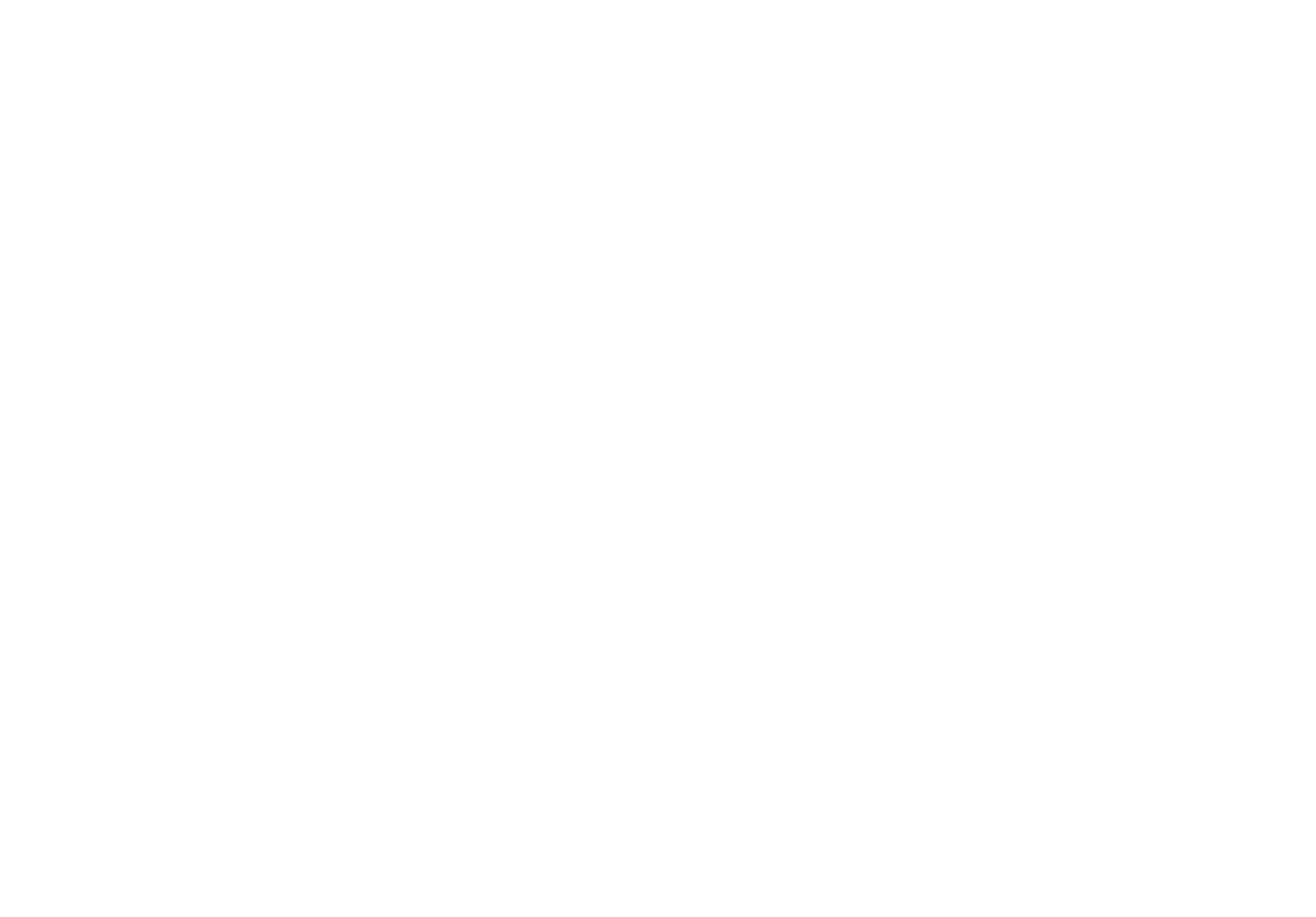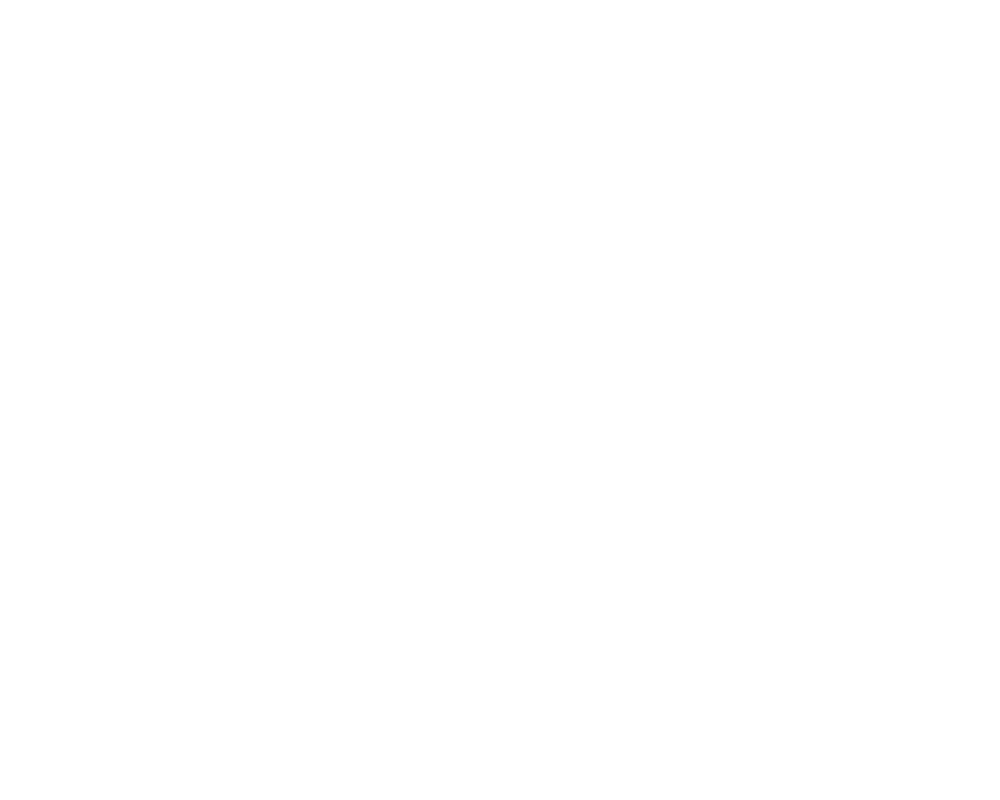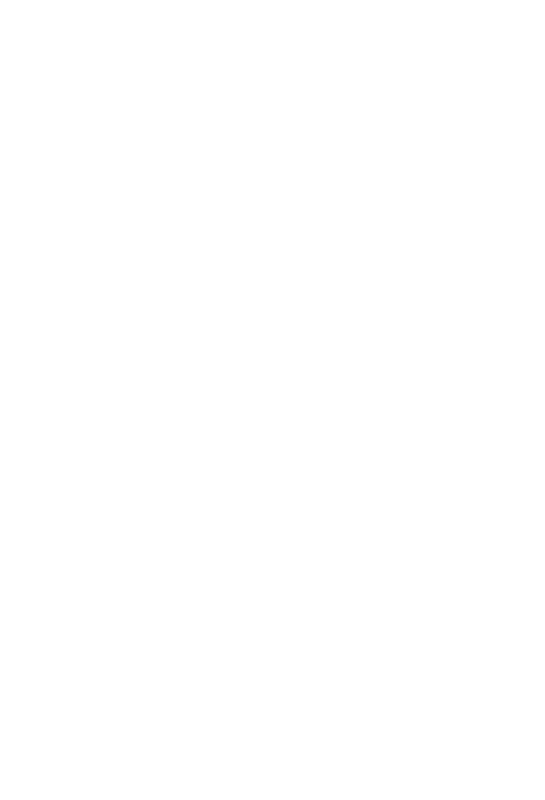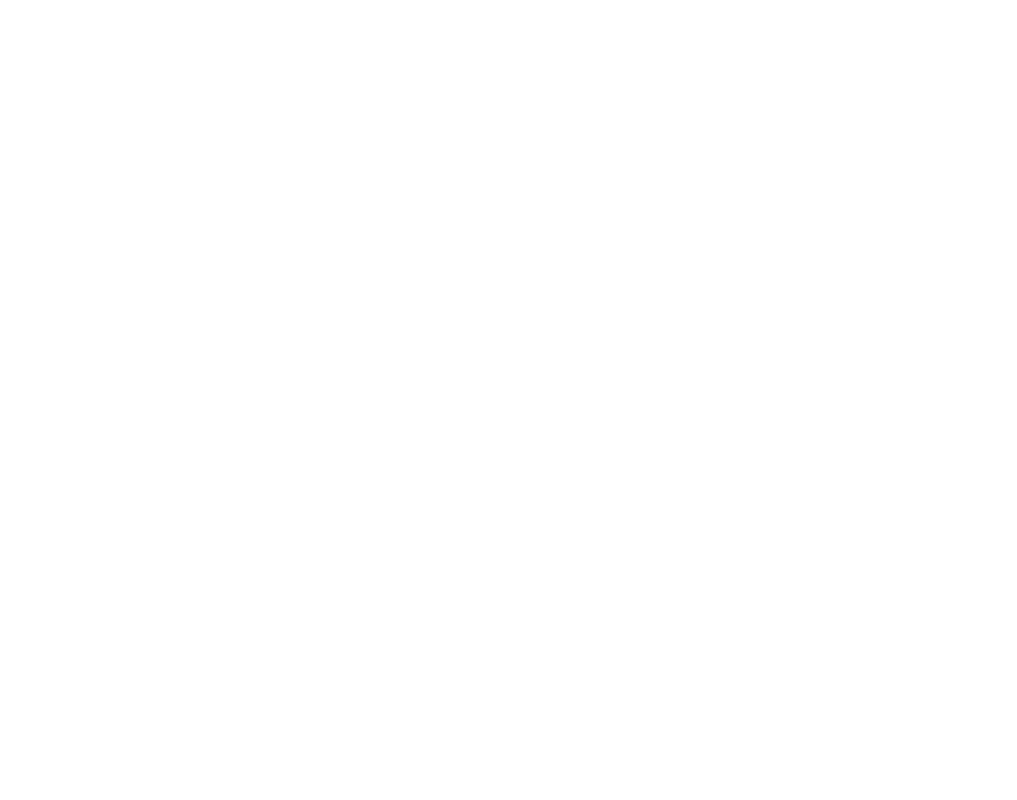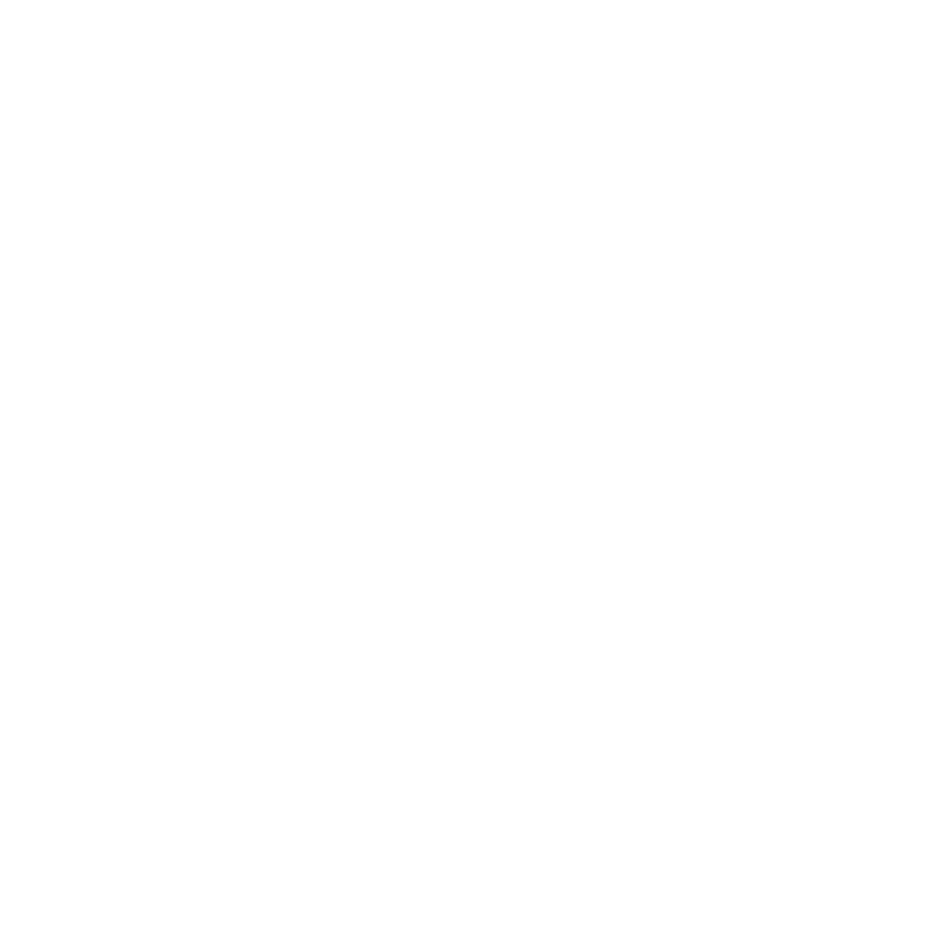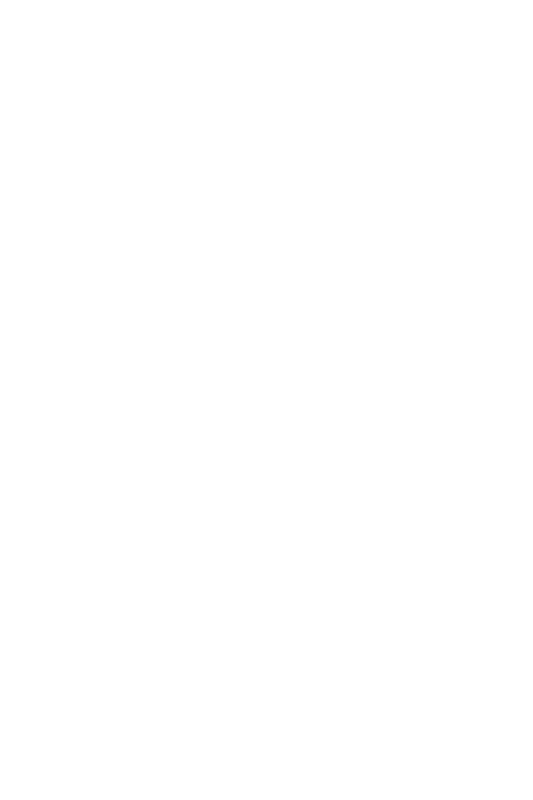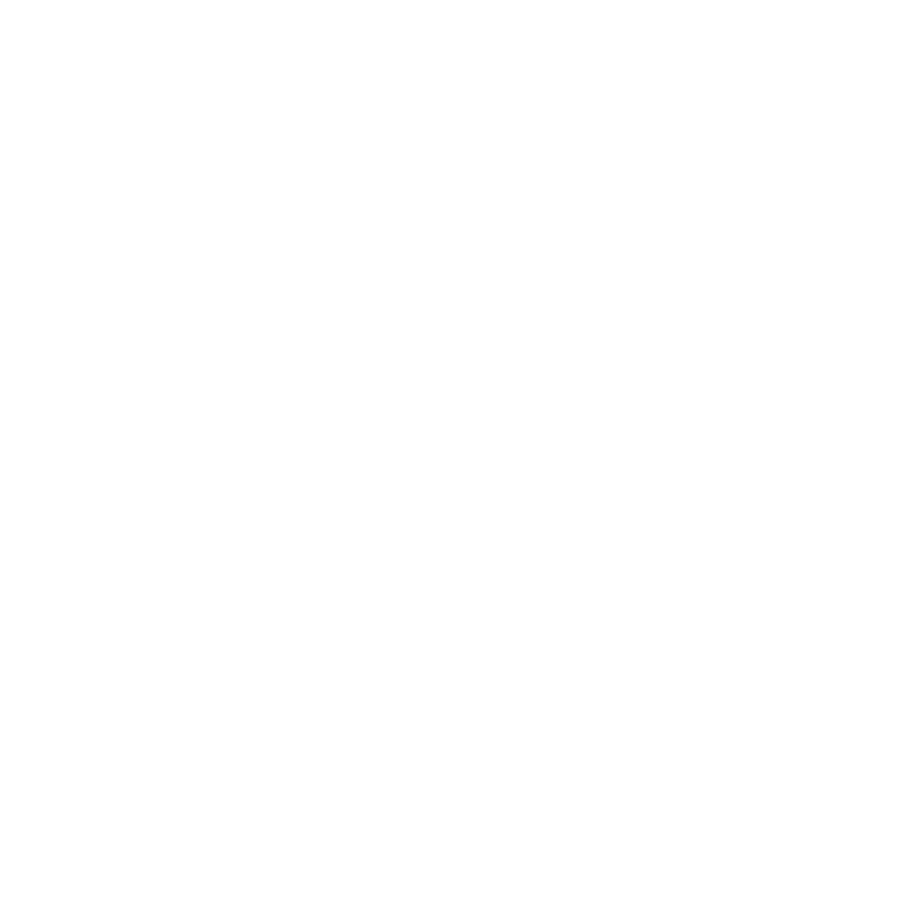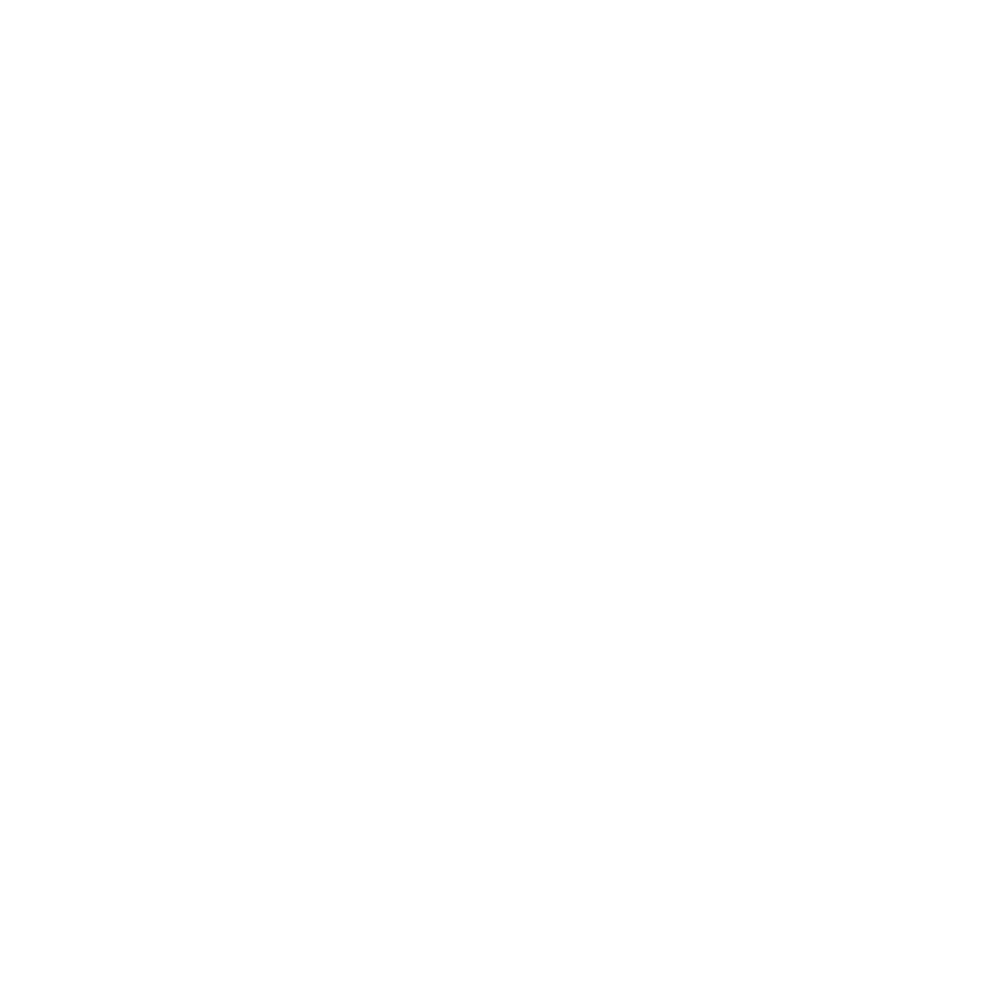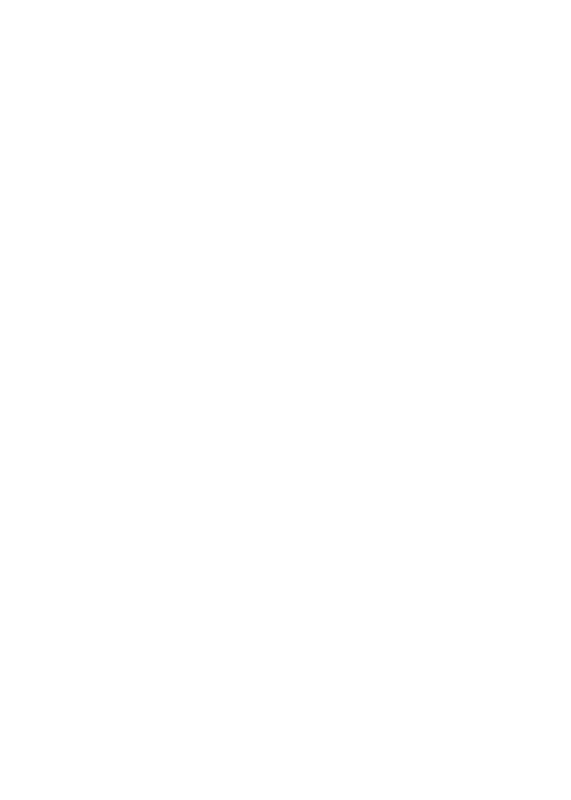эссе
эрик
михаил айзенберг
Слово от редакции
Этот текст...
Эрик сидит слева от меня, и я вижу сбоку его немного петушиный горбоносый профиль и яркий глаз, горящий веселым черным огнем. Всегда поражает невероятная легкость, с которой он входит в «высокий разговор» – как будто всегда в полушаге от него (да так и есть). Обычные темы – Италия, Вермеер, Брейгель.
– Самая лучшая картина Брейгеля – «Слепцы», написана всего за год до смерти. К какому отчаянию пришел человек к концу жизни!
– Единственный художник, которого я совершенно не понимаю, это Вермеер. Объясняют, что он пользовался камерой обскура. Ну и что? Многие тогда пользовались. Я не понимаю: что это? То же, что у всех. И при этом совершенно другое. Как у Хармса: «Я такой же как вы. Только лучше». И еще загадка: две его ранние картины на ретроспективной выставке – совершенно обычные, средние, итальянские. А через год – «Девушка с письмом» и «Сводня». И это вершины, выше он уже не поднимался. Где промежуточный этап? Между прочим, любимый художник Гитлера.
Всегдашний разговор-спор о Рафаэле (нами не любимом). Эрик говорит, что «Афинская школа» – шедевр композиции; что фигуры у Рафаэля удивительно летящие – как ни у кого. Они не подчиняются законам тяготения, не имеют веса. Что Рафаэль одновременно и отец китча (народной живописи), и вершина, высшая точка классического искусства. Но только в нескольких, лучших работах. «Три века он был непревзойденным образцом». Но эта высшая точка, видимо, уже ушла от нас – она как бы за горизонтом.
Говорит, как испортили при реставрации фрески Сикстинской капеллы – восстановили исходные цвета. Но фреска со временем меняет цвет, убавляет яркость, и художник, конечно же, просчитывает этот эффект. То есть исходные краски – не те, что имеет в виду автор.
О «Джоконде»: «Это ведь не мы на нее смотрим – это она смотрит на нас». («Это не женщина, это картина смотрит на нас»).
Слова, обращенные к тебе или просто сказанные в твоем присутствии, уже не совсем чужие, ты несешь за них какую-то ответственность (их надо бы не забыть). Некоторые фразы Эрика я встречал потом в его статьях (что неудивительно), но те, сказанные при мне, они мне не чужие.
В Париже провели один вечер в гостях у Булатовых. Эрик показывает новые картины на стихи Севы Некрасова или Блока: «Черный вечер, белый снег», «То-то и оно», «Как идут облака, как идут дела». И потрясающая «Туча» – она оживает в памяти как реальное событие.
«Есть разница между живописью и картиной, – говорит Эрик, – живопись – зрелище, а картина – конструкция, которая включает в себя зрителя». Еще рассказал о поездке на Крит. Вся архитектура там – гипотеза, реконструкция. «Цивилизация Крита исчезла в одночасье, как от взрыва. Не как древние греки, которые постепенно перестали размножаться в почетной неволе – потеряли волю к продолжению своей истории» (это к разговору о Франции). (4.01.01)
– Самая лучшая картина Брейгеля – «Слепцы», написана всего за год до смерти. К какому отчаянию пришел человек к концу жизни!
– Единственный художник, которого я совершенно не понимаю, это Вермеер. Объясняют, что он пользовался камерой обскура. Ну и что? Многие тогда пользовались. Я не понимаю: что это? То же, что у всех. И при этом совершенно другое. Как у Хармса: «Я такой же как вы. Только лучше». И еще загадка: две его ранние картины на ретроспективной выставке – совершенно обычные, средние, итальянские. А через год – «Девушка с письмом» и «Сводня». И это вершины, выше он уже не поднимался. Где промежуточный этап? Между прочим, любимый художник Гитлера.
Всегдашний разговор-спор о Рафаэле (нами не любимом). Эрик говорит, что «Афинская школа» – шедевр композиции; что фигуры у Рафаэля удивительно летящие – как ни у кого. Они не подчиняются законам тяготения, не имеют веса. Что Рафаэль одновременно и отец китча (народной живописи), и вершина, высшая точка классического искусства. Но только в нескольких, лучших работах. «Три века он был непревзойденным образцом». Но эта высшая точка, видимо, уже ушла от нас – она как бы за горизонтом.
Говорит, как испортили при реставрации фрески Сикстинской капеллы – восстановили исходные цвета. Но фреска со временем меняет цвет, убавляет яркость, и художник, конечно же, просчитывает этот эффект. То есть исходные краски – не те, что имеет в виду автор.
О «Джоконде»: «Это ведь не мы на нее смотрим – это она смотрит на нас». («Это не женщина, это картина смотрит на нас»).
Слова, обращенные к тебе или просто сказанные в твоем присутствии, уже не совсем чужие, ты несешь за них какую-то ответственность (их надо бы не забыть). Некоторые фразы Эрика я встречал потом в его статьях (что неудивительно), но те, сказанные при мне, они мне не чужие.
В Париже провели один вечер в гостях у Булатовых. Эрик показывает новые картины на стихи Севы Некрасова или Блока: «Черный вечер, белый снег», «То-то и оно», «Как идут облака, как идут дела». И потрясающая «Туча» – она оживает в памяти как реальное событие.
«Есть разница между живописью и картиной, – говорит Эрик, – живопись – зрелище, а картина – конструкция, которая включает в себя зрителя». Еще рассказал о поездке на Крит. Вся архитектура там – гипотеза, реконструкция. «Цивилизация Крита исчезла в одночасье, как от взрыва. Не как древние греки, которые постепенно перестали размножаться в почетной неволе – потеряли волю к продолжению своей истории» (это к разговору о Франции). (4.01.01)
Вечер у нас: Булатовы, Лёва, Иван, Шейнкер. В середине вечера даже спор о модернизме и постмодернизме, начавшийся с Жижека, перешедший к Гройсу. Миша и Лева как-то сводят модернизм к утопизму (собственно, к Малевичу). А Эрик рассказывает о грандиозной выставке «Дада»: «Собственно, это бунт против эстетики. В дело пошло все, включая технические чертежи».
«Но началось-то все с Леонардо», – говорит Миша.
«Леонардо искусство интересовало как частность. Вообще-то его интересовала жизнь: как она устроена. В «Джоконде» он подошел живописью к жизни так близко, как только возможно. Никто уже потом не подходил ближе. И после живописью уже не занимался, стал изобретать машины. Леонардо – лучший рисовальщик. Я однажды держал в руках его рисунок – и там нельзя понять, как это сделано. Он проводит линию – и по одну сторону пустота, по другую – наполненная форма».
Про их суриковского преподавателя. «Вы думаете, это все французы? Это все явреи». – «А Марке?» – «Прядставьте себе – тоже яврей!»
Рассказ Эрика про то, как они года два назад вместе с Олегом и Кирой оказались в маленьком норвежском городке. Холод страшный. Булатовы живут в гостинице, Васильевы у знакомых, но дорогу не помнят. Пока искали, страшно замерзли, купили в магазине бутылку и прямо на улице прихлебывали из горлышка. Прохожие отшатывались. Утром им рассказали следующее: город мгновенно узнал, что появились чужие и распивают на улице. Вызвали полицию, та оцепила весь район. Чужие, к счастью, уже сидели по домам. (20.01.06)
«Но началось-то все с Леонардо», – говорит Миша.
«Леонардо искусство интересовало как частность. Вообще-то его интересовала жизнь: как она устроена. В «Джоконде» он подошел живописью к жизни так близко, как только возможно. Никто уже потом не подходил ближе. И после живописью уже не занимался, стал изобретать машины. Леонардо – лучший рисовальщик. Я однажды держал в руках его рисунок – и там нельзя понять, как это сделано. Он проводит линию – и по одну сторону пустота, по другую – наполненная форма».
Про их суриковского преподавателя. «Вы думаете, это все французы? Это все явреи». – «А Марке?» – «Прядставьте себе – тоже яврей!»
Рассказ Эрика про то, как они года два назад вместе с Олегом и Кирой оказались в маленьком норвежском городке. Холод страшный. Булатовы живут в гостинице, Васильевы у знакомых, но дорогу не помнят. Пока искали, страшно замерзли, купили в магазине бутылку и прямо на улице прихлебывали из горлышка. Прохожие отшатывались. Утром им рассказали следующее: город мгновенно узнал, что появились чужие и распивают на улице. Вызвали полицию, та оцепила весь район. Чужие, к счастью, уже сидели по домам. (20.01.06)
Эрик в черной рубашке с какими-то бисерными узорами. Вспомнил эпизод из середины 60-х: Мише Рогинскому сначала предложили выставку в Курчатовском институте, потом отказали под предлогом грозящих неприятностей. Он возражал: вот же, прошла выставка Целкова. «Но ведь Целков – художник», – ответили ему. Это произвело на Мишу такое ужасное впечатление, что он тогда-то и забросил надолго свой поп-арт, стал писать картинки под Измайлова.
Про Целкова: всегда выпивает за обедом три бутылки вина – самого дешевого, смесь каких-то опивок. Ему все равно, главное количество.
С напряжением спрашивает у меня, что я думаю про тандем Виноградов-Дубоссарский. Он не понимает, что означает их успех – что это за искусство такое. Я говорю, что все дело в языке: есть живопись, а есть товар из супермаркета с этикеткой «живопись».
Захаров еще в 70-е, когда Эрик говорил о своих пространственных задачах, реагировал так: «Не блефуйте, Булатов». Никита Алексеев говорит о гиперсерьезности Булатова. Может, он просто начисто лишен лукавства? А ведь это главный художественный принцип детей Кабакова – да и всего московского концептуализма в его изобразительном варианте.
«Все-таки очень мало нас, – говорит Эрик, – но так, наверное, и должно быть». (3.10.06)
Про Целкова: всегда выпивает за обедом три бутылки вина – самого дешевого, смесь каких-то опивок. Ему все равно, главное количество.
С напряжением спрашивает у меня, что я думаю про тандем Виноградов-Дубоссарский. Он не понимает, что означает их успех – что это за искусство такое. Я говорю, что все дело в языке: есть живопись, а есть товар из супермаркета с этикеткой «живопись».
Захаров еще в 70-е, когда Эрик говорил о своих пространственных задачах, реагировал так: «Не блефуйте, Булатов». Никита Алексеев говорит о гиперсерьезности Булатова. Может, он просто начисто лишен лукавства? А ведь это главный художественный принцип детей Кабакова – да и всего московского концептуализма в его изобразительном варианте.
«Все-таки очень мало нас, – говорит Эрик, – но так, наверное, и должно быть». (3.10.06)
Эрик и Наташа у нас. Эрик на внутреннем подъеме: за год написал четыре картины, за май написал (здесь, в Москве) большую картину для Третьяковки, которая уже включена в постоянную экспозицию. Кроме того, у него постоянная экспозиция в одном из парижских музеев, ожидаются выставки в Германии и пр. Даже не упомянул о выставке в Третьяковке, где его «Олег» представительствует за все новое русское искусство.
Говорили про Дионисия и Фра Анджелико, про икону Михаила Архангела в Архангельском соборе, которую приписывают Феофану Греку, но Эрик считает, что это 12 век. Про Мирожский монастырь. (3.06.07)
Говорили про Дионисия и Фра Анджелико, про икону Михаила Архангела в Архангельском соборе, которую приписывают Феофану Греку, но Эрик считает, что это 12 век. Про Мирожский монастырь. (3.06.07)
Вечером в гостях у Булатовых, только мы и Сёма. В основном обсуждение недавнего аукциона «Филипс». Они, оказывается, не знают, кто их купил: все продажи по телефону. Сёма знает только про «Семейный портрет»: его купил Абрамович. Опять возник (как продавец) бывший председатель «Дойче Банка» с паучьим именем Клауке – и такими же повадками.
Эрик читает Моммзена, увлечен историей Рима, но особенно Ганнибалом.
Его избрали почетным академиком (еще Рабин, Немухин и кто-то еще – Штейнберг?).
Когда Сёма и девушки уходят на кухню, сразу начинается другой разговор. О том, что он пытается написать про Рафаэля, но пока не получается. Как Жуковский написал про «Сикстинскую мадонну»: она, оказывается, стоит, но кажется, что идет вам навстречу.
Потом о том, что после семидесяти он почувствовал, как уходят силы, возможность концентрации. Время работы короче.
Что-то в нем действительно изменилось: бледность и худоба. Впалость скул, висков. (12.03.08)
Эрик читает Моммзена, увлечен историей Рима, но особенно Ганнибалом.
Его избрали почетным академиком (еще Рабин, Немухин и кто-то еще – Штейнберг?).
Когда Сёма и девушки уходят на кухню, сразу начинается другой разговор. О том, что он пытается написать про Рафаэля, но пока не получается. Как Жуковский написал про «Сикстинскую мадонну»: она, оказывается, стоит, но кажется, что идет вам навстречу.
Потом о том, что после семидесяти он почувствовал, как уходят силы, возможность концентрации. Время работы короче.
Что-то в нем действительно изменилось: бледность и худоба. Впалость скул, висков. (12.03.08)
В нашем магазине неожиданно вижу Эрика Булатова. Пока он не заулыбался, узнав меня, показалось, что очень постарел (мы не виделись с июня 2011): идет на полусогнутых, вперив невидящий стариковский взгляд. Но улыбка все сразу изменила: он очень обрадовался. (29.12.12)
Вечером Эрик, Наташа, Сема и Ваня. Эрик говорит про «Явление Христа народу» и про позднюю работу Дюшана в Филадельфии, над которой тот работал последние 15 лет, но не закончил (и никто о ней не знал, кроме жены). Ее нужно смотреть в две дырочки, и там видишь цветной мир с деревьями, горами и женщиной на первом плане. Эрик считает, что это по существу картина.
Это вызвало долгий разговор о различии между картиной и инсталляцией. Идея примерно такая: картина в себя впускает – или не впускает. В инсталляции в принципе отсутствует такое разделение: она не в состоянии не впустить, и это уже никакое не чудо. А этот момент (входа) – он и есть главный «момент искусства».
И еще: разное время. В инсталляции время физическое, в картине метафизическое.
Эрик одобрил: «Верно!» (6.01.13)
Это вызвало долгий разговор о различии между картиной и инсталляцией. Идея примерно такая: картина в себя впускает – или не впускает. В инсталляции в принципе отсутствует такое разделение: она не в состоянии не впустить, и это уже никакое не чудо. А этот момент (входа) – он и есть главный «момент искусства».
И еще: разное время. В инсталляции время физическое, в картине метафизическое.
Эрик одобрил: «Верно!» (6.01.13)
80-летие Эрика в центре Свибловой. В вестибюле круглые белые столы, как бы вальсирующие. Сначала внизу фильм А. Шаталова «Булатов во Флоренции», потом путаная презентация книги «Горизонт». Эрик плохо слышит и все время с кем-то разговаривает, на сцену не дозовешься. (5.09.13)
Когда Эрик передавал мне билеты на свою выставку в Манеже (8.09.14), я пошутил: «Не прошло и пятидесяти лет, как ты сравнялся с Глазуновым». Пошутил явно неудачно: Эрик не улыбнулся, а как-то горько призадумался.
А когда я поздравлял его с открытием, он на мое «замечательно» как-то отстранился и взглянул с надеждой, но зорко-внимательно: правду ли говорю, действительно ли понравилось? Поразительно: человеку за восемьдесят, признанный всем миром великий мастер. Но все верно, так и надо.
Выставка огромная, собирали по всему миру, и, конечно, собрать удалось не все. Знаменитый «Горизонт» есть, но нет «Иду», которое я увидел в первый раз еще в его мастерской (лет тридцать назад) и сразу понял, с чем имею дело, когда картина стала физически затягивать меня внутрь себя.
Есть художники, которым для демонстрации «феномена» достаточно предъявить одну-две работы. У Эрика такой феномен выявляется всем рядом, всеми написанными им картинами, и отсутствие даже одной воспринимается как недопроявленность общего плана и явный ущерб.
Нет на этой выставке невероятной картины 1988 года: дом отдыха (с синими скамейками): первый весенний свет – бледный, холодный – скользит по стволам. Но он реально скользит; ты видишь само это скольжение.
Никакие репродукции не дают никакого представления об этом художнике, и даже хуже: они дают представление о каком-то другом художнике, которым Булатов ни в коем случае не является, но с которым его все время путают. Эрик пишет свет, и видимое лишь попутно проникает в картину, как производное света, та впускает его с трудом и неохотой. И действительно: какую работу надо проделать с реальностью, чтобы та стала достойна такого – светового – изображения.
На картину «Туман» (фигура на мостках) можно смотреть часами, там волшебным образом меняется свет: как будто то более, то менее плотный слой тумана находит на солнце; свет скользит; освещение меняется. Движется, течет вода под мостками; в ее глубине шевелятся водоросли. Постоянно меняется и сама картина. Как это сделано – непонятно, какое-то чудо.
«Вода текла» (2001) – по тексту Некрасова: здесь текут сами буквы, стекают из правого верхнего в левый нижний угол.
Последний раздел выставки – картины последних лет, которые я раньше не видел. «Картина и зрители» («Явление Христа народу»), «Санта Мария дель Фьоре», «Наше время» (переход у Курского вокзала) и чудные карандашные эскизы к этой картине. Слева черная «Дверь» и карандашный туманный пейзаж московской окраины
И самое сильное впечатление от них: лучшие там не хуже прежних лучших, а при этом другие. 81 год, а он все еще идет вперед и выходит к новому.
Поздние работы («Между собакой и волком» или «Туман») как бы пейзажи. Но они хранят генетическую память о своих предшественниках – пространственных опытах 60-х годов.
«Картина существует до изображения – как белый квадрат, – говорит Эрик. – И уже потом я начинаю на нем рисовать». И возможно, такое понимание картины как белого квадрата было бы невозможно без «Черного квадрата».
В конце 70-х я слушал, как говорят между собой художники Кабаков, Булатов, Васильев – и удивлялся. В их репликах не было ничего специфически цехового, ни слова про «колорит» или «фактуру», а самым одобрительным определением было «узнаваемо» – слово словно бы и не из лексикона художника. Они говорили между собой не как художники, а как зрители. Отчасти и мыслили себя зрителями.
Эта «узнаваемость» – следствие работы с «общими местами». В каждой местности не просто свой пейзаж, а свой свет, свое небо. Небо висит на разной высоте и по-своему пропускает свет. По-разному строятся и идут облака. На станции Кратово или Отдых вас встречают совершенно «булатовские» сосны под булатовским небом с булатовскими облаками. А где-нибудь под Марфино вы замечаете поле и перелесок совершенно «васильевские».
Картины Булатова это справка о реабилитации для Васильева. Вероятно, Олег Васильев всегда хотел писать просто пейзажи, но что-то не позволяло. Искусство не позволяло; картина не позволяла. Но вот что-то изменилось – в искусстве, в восприятии.
На посвященной Булатову конференции в Третьяковке все участники начинали, как заведенные, говорить не о живописи, а о жизни и переходили на другой, не искусствоведческий язык. Это знаменательно. Уже очевидно, что это искусство нельзя объяснить, не рассматривая его как способ существования (экзистенциальный проект). Это борьба за возможность света и движения в темном и стесненном мире. То есть борьба за политическое (не социальное) пространство.
В этом вся разница. Эрик не соц-артист. Соц-арт боролся за место в социальном пространстве. Эрик – за возможность пространства политического, за мир человеческого (в понимании Ханы Арендт). Это борьба против «темных времен», против жизни в темноте.
И пространство, и свет проявляют себя в движении. Именно движение становится главным событием всех его картин. Движение – это то, что невозможно в «темном», сплюснутом пространстве.
После первой картины 1971 года его главной темой стал «горизонт». «И этот горизонт – он все время удаляется, меняется. Сначала – социальный. Потом – природный что ли. Но сейчас кажется, что и за ним есть что-то еще, какой-то новый горизонт, другой. Другой свет».
Есть, говорит Эрик, какой-то третий свет – свет самой картины, идущий сквозь краску. Без него картина мертва. Природа этого света неясна, но его источник находится за картиной, даже за привычными (обозримыми) границами искусства.
– Как меня поразили когда-то слова Хайдеггера о «просвете бытия». Все это можно понять так: бытие было бы беспросветно – если бы не человек. Этот «просвет» и ловит, ищет искусство. Оно спрашивает: зачем человек?
– Этот просвет ты и пишешь.
ЭРИК БУЛАТОВ
1933—2025
1933—2025