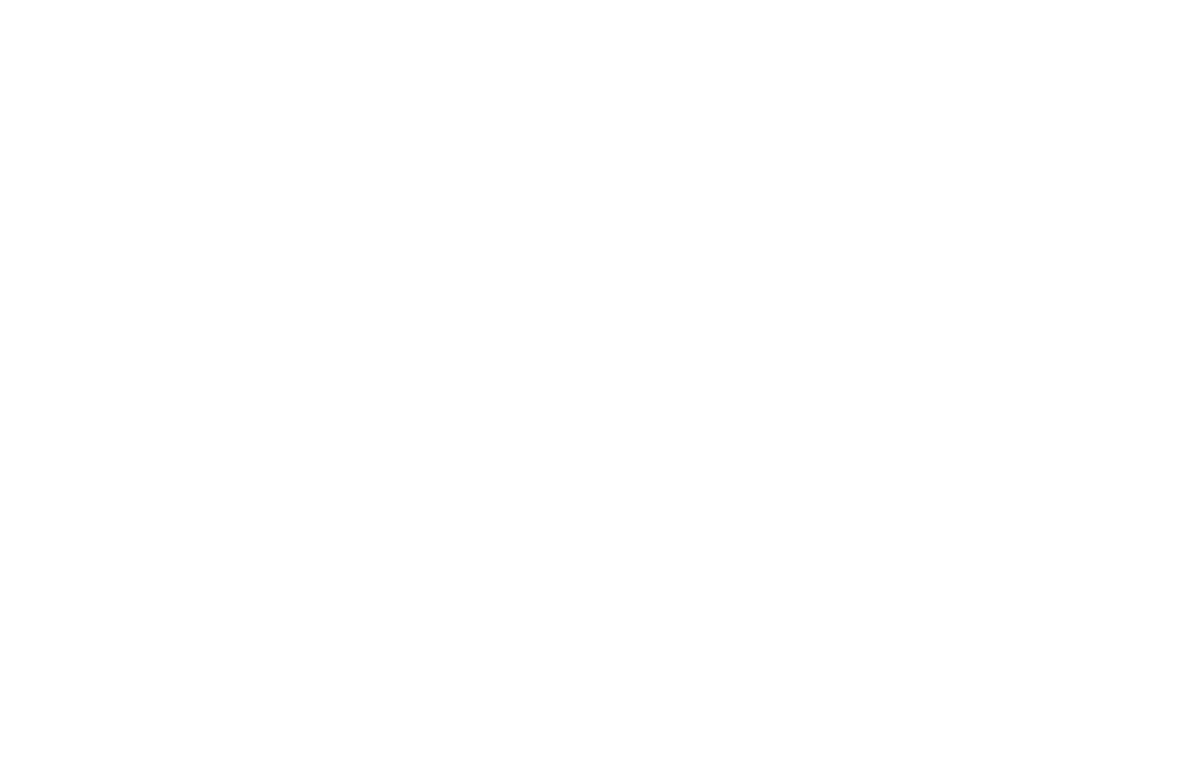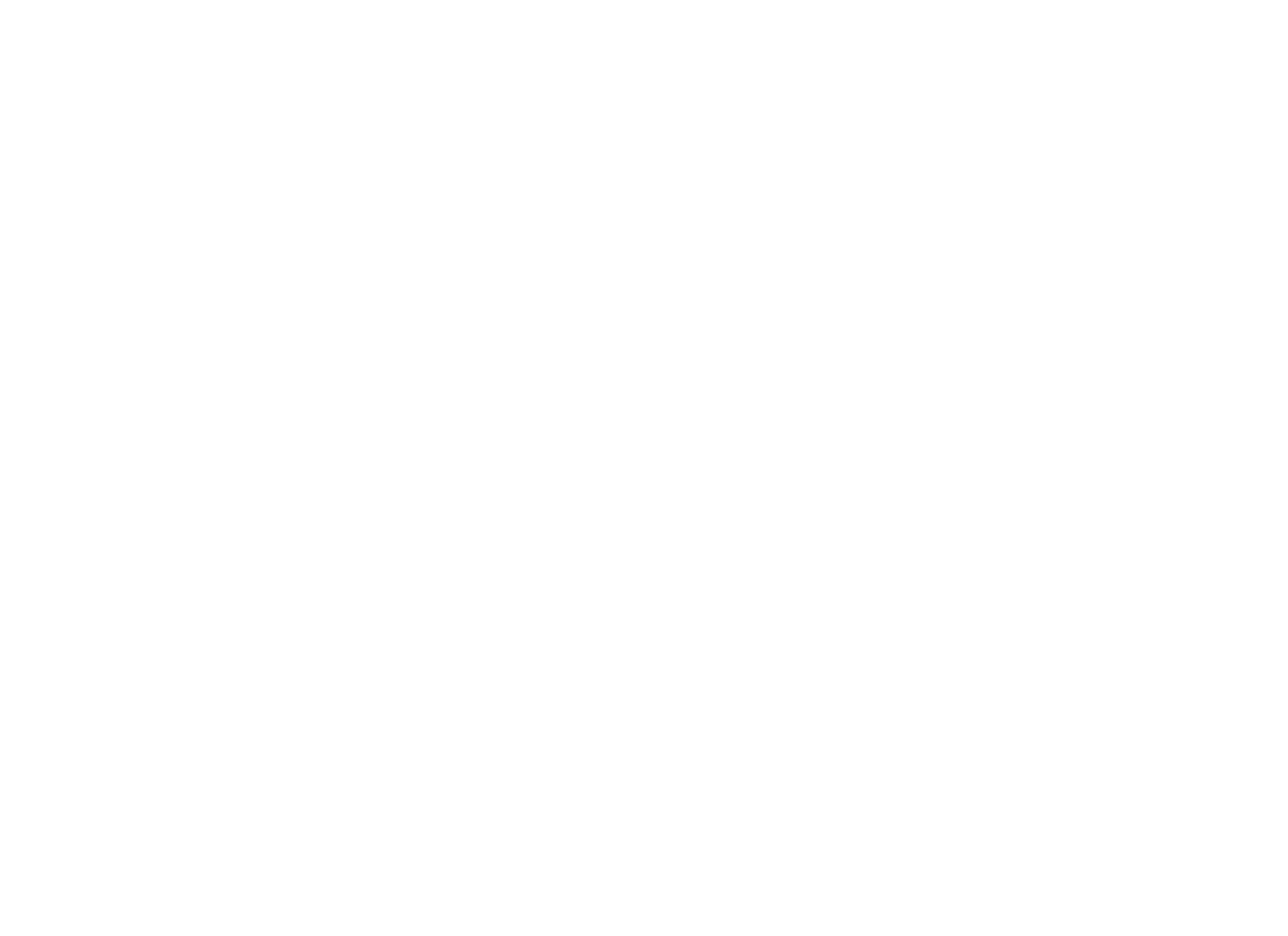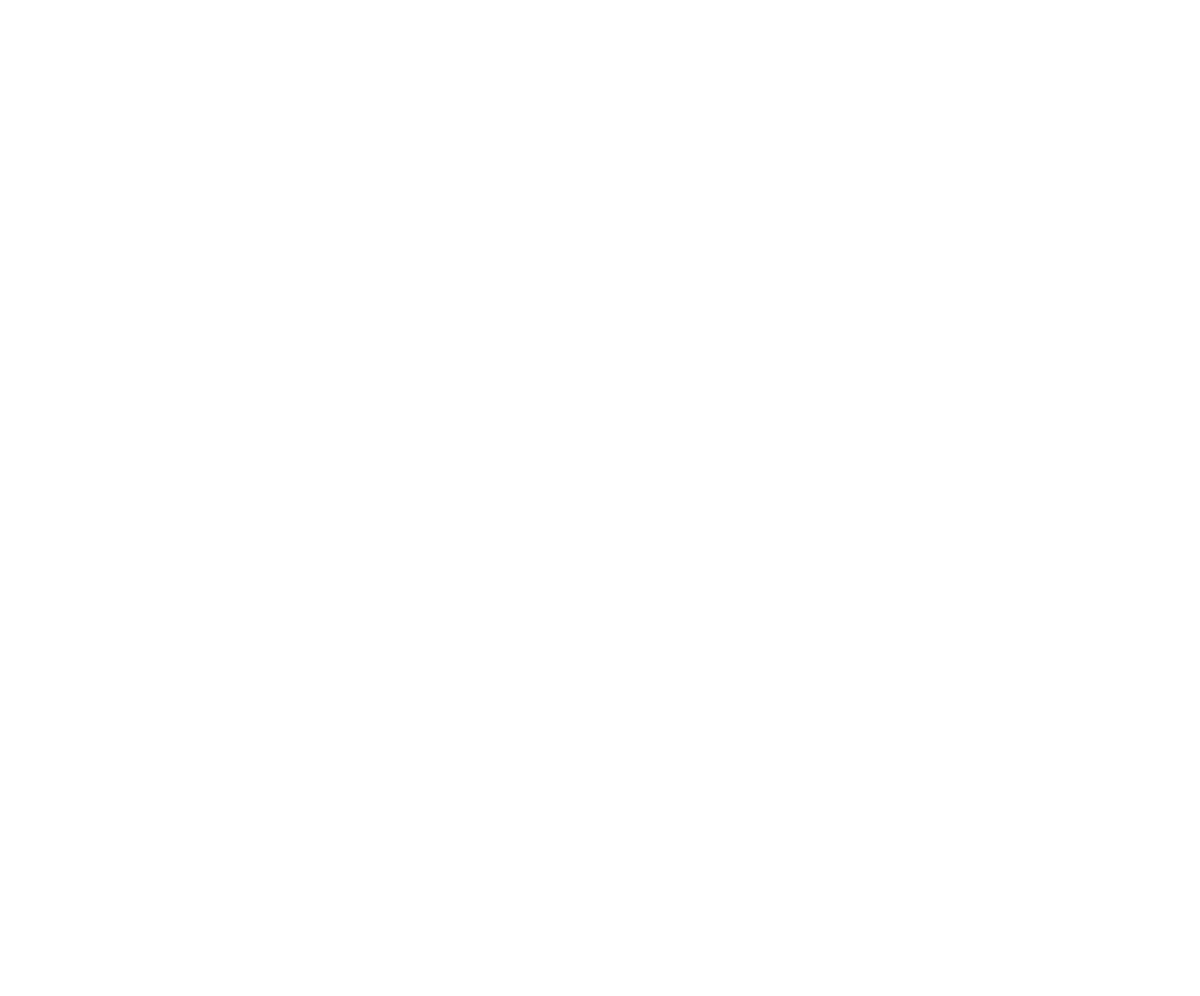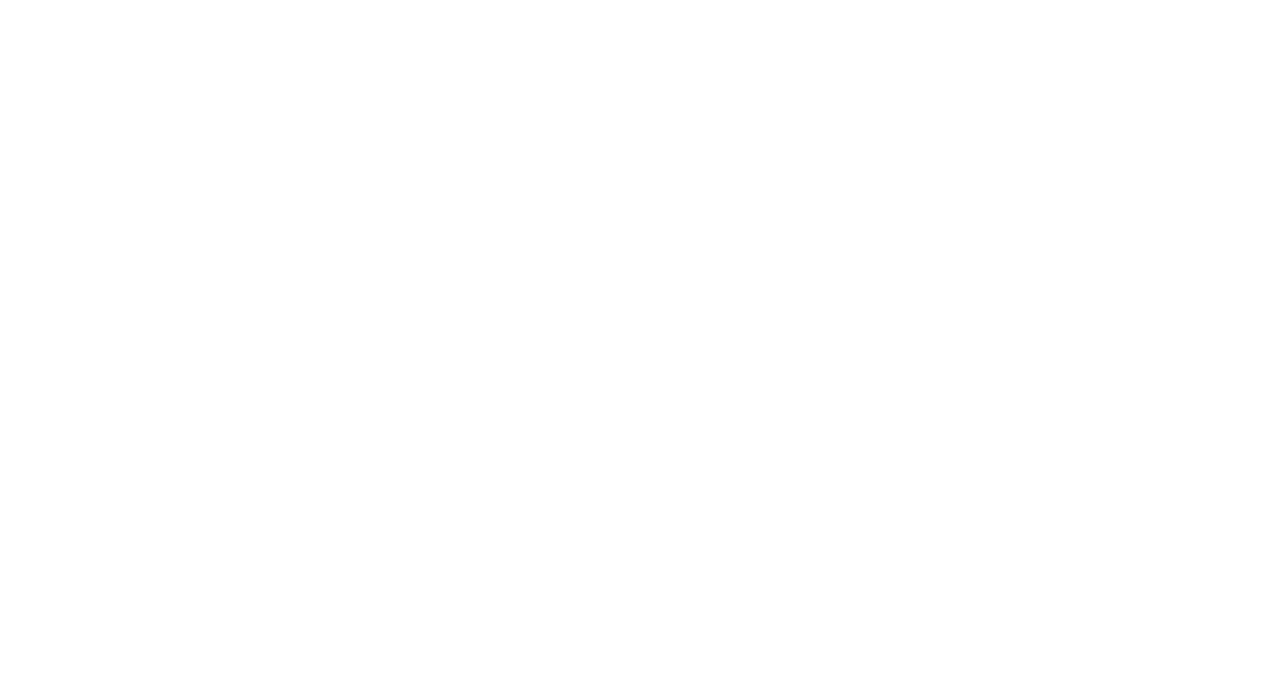эссе
равновесие
вячеслав попов
Вячеслав Попов – поэт, филолог. Родился в 1966 году в деревне Малые Коряки Смоленской области. Автор книг «Там» и «Быстротеченск и окрестности».
Вчера вышли с мамой на прогулку, когда уже стемнело. Мама не очень уверенно себя чувствует в темноте, даже освещенной фонарями. От избыточной осторожности придирчиво вглядывается в асфальт под ногами, а там опавшие листья, тающий снег, мелкие лужицы, и все это пересечено множеством теней. Я ей говорю:
— Мам, чувствую, ты забываешь за меня хорошо держаться. Отвлекаешься на поиск препятствий, мы теряем ровный ритм. Я же здесь, я тебя веду. Опирайся как следует на мою руку и смотри дальше перед собой, так ты будешь заранее готова, а сейчас, наоборот, сбиваешься с шага. Это опаснее, чем лужа.
— Понимаю.
— Помнишь картину «По канату» художника... Как же его?.. На «С», я про него даже что-то написал... Вот ты на память жалуешься, а это у меня Альцгеймер... Уф, вспомнил — Соломаткин! Помнишь картину? Там светлые сумерки. Девочка-канатоходка идет по канату. Она в белом платье с голубыми лентами. А внизу, под ней, толпа зевак с задранными вверх лицами. Все бы ничего, но девочка смотрит не вперед и дальше, а себе под ноги, насколько ей это позволяет пышный подол платья. И это вызывает чувство тревоги: кажется, она сейчас упадет...
— Да, потому что она видит слишком много лишнего, а не то, что ей нужно, — говорит мама.
Вдруг голос:
— Не отвлекайся! Смотри только вперед!
По бордюру, балансируя, как канатоходец, навстречу нам идет мальчик лет шести.
— Когда идешь по тонкому парапету, нужно смотреть только вперед! — поучает его подтянутая женщина в спортивном костюме, похоже, бабушка, держа наготове протянутую страхующую руку.
Мы с мамой рассмеялись такому совпадению. Она взяла меня под руку покрепче, и мы стали спускаться по ступеням пологой лестницы, ведущей к дому, — самое ответственное место маршрута.
— Мам, чувствую, ты забываешь за меня хорошо держаться. Отвлекаешься на поиск препятствий, мы теряем ровный ритм. Я же здесь, я тебя веду. Опирайся как следует на мою руку и смотри дальше перед собой, так ты будешь заранее готова, а сейчас, наоборот, сбиваешься с шага. Это опаснее, чем лужа.
— Понимаю.
— Помнишь картину «По канату» художника... Как же его?.. На «С», я про него даже что-то написал... Вот ты на память жалуешься, а это у меня Альцгеймер... Уф, вспомнил — Соломаткин! Помнишь картину? Там светлые сумерки. Девочка-канатоходка идет по канату. Она в белом платье с голубыми лентами. А внизу, под ней, толпа зевак с задранными вверх лицами. Все бы ничего, но девочка смотрит не вперед и дальше, а себе под ноги, насколько ей это позволяет пышный подол платья. И это вызывает чувство тревоги: кажется, она сейчас упадет...
— Да, потому что она видит слишком много лишнего, а не то, что ей нужно, — говорит мама.
Вдруг голос:
— Не отвлекайся! Смотри только вперед!
По бордюру, балансируя, как канатоходец, навстречу нам идет мальчик лет шести.
— Когда идешь по тонкому парапету, нужно смотреть только вперед! — поучает его подтянутая женщина в спортивном костюме, похоже, бабушка, держа наготове протянутую страхующую руку.
Мы с мамой рассмеялись такому совпадению. Она взяла меня под руку покрепче, и мы стали спускаться по ступеням пологой лестницы, ведущей к дому, — самое ответственное место маршрута.
А вот что я написал про Соломаткина.
Есть у Леонида Соломаткина картина «На канате».
Она совершенно очаровательна и сулит знакомство с чудесным миром.
Девушка-кантоходка в белом кисейном платье с голубыми лентами грациозно, но не слишком уверенно движется по канату. Взгляд ее устремлен не прямо вперед на конечную цель, а поверх подола пышной юбки, вниз, на канат, что выдает ее неопытность, если не обреченность, и заставляет за нее волноваться. За спиной юной циркачки близко видны перила и перекладины стойки, от которой она начала движение. Она успела сделать всего несколько — три? пять? шесть? — шагов на огромной высоте. Мы видим ее на фоне темной исполинской стены леса или старого парка и едва различимой толпы зрителей внизу, чьими задранными головами с неразборчивыми лицами вымощена нижняя часть картины. Цвет шелковой отделки платья перекликается с цветом вечернего неба — перекликается, но не повторяет его: голубизна неба имеет предзакатный оттенок зеленоватой бирюзы, голубизна лент на платье — нежная лазурь, непонятно откуда взявшая свой ясный дневной блеск. Искусственные источники света увели бы все в желтизну. Вполне ясно, что художник совершенно не ставил перед собой задачу создать оптически и астрономически достоверную световую среду. Символизм же такого сопоставления легко читается: перед нами возвышенная душа, небесное создание. Но, как уже сказано, небесное создание очень неуверенно чувствует себя на такой высоте. Канат в пространстве картины не имеет конца. Циркачка вполне во власти земного притяжения, телесной неопытности и робости, усугубленных непривычно пышным нарядом и украшениями: в ушах канатоходки крупные жемчужные сережки, почему-то кажется, они ее отягощают и отвлекают.
Провисание каната и выгиб шеста, составляющих перекрестье (крест?) в легко достраиваемом в воображении ракурсе снизу или сверху, две перпендикулярные пружинистые дуги удерживают не только канатоходку, но и внимание зрителя. В руках ее несколько куцый шест-балансир, провисающий концами непропорционально своей длине, — с физической достоверностью картине тоже не все в порядке. Но это работает на поддержание неуверенности и тревоги за девушку.
Точка, с которой и мы, и, в первую очередь, сам художник видит юную циркачку, — это точка невозможного присутствия. По крайней мере, под открытым небом. Канатоходка совершенно одинока на своей высоте. Это высота птичьего полета. Это точка зрения левитирующего или крылатого существа.
Я долго пытался понять секрет очарования этой картины — а она очаровательна: по-моему, как раз во внушенной мне как зрителю позиции и, пожалуй, даже роли ангела-хранителя, который своим сопереживанием страхует девушку от падения. Решена сложная задача — отстраненное наблюдение с замершим дыханием как включенность в ситуацию.
В отличие от зевак, находящихся внизу, художник и зритель, которому он дарит свою точку зрения, вознесены на высоту соприсутствия. Кроме того, создатель образа — скачок в другую сторону — ровня, собрат своему персонажу: неопытная канатоходка в своем громоздком наряде и со своим куцым шестом и так и не ставший мастером художник Соломаткин, балансирующий на грани профессионализма со своей пьяным комикованием и грубоватой кистью и на грани социальной приемлемости со своим сиротством, асоциальностью, алкогоголизмом (он плохо кончил)... Автопортрет?
Есть у Леонида Соломаткина картина «На канате».
Она совершенно очаровательна и сулит знакомство с чудесным миром.
Девушка-кантоходка в белом кисейном платье с голубыми лентами грациозно, но не слишком уверенно движется по канату. Взгляд ее устремлен не прямо вперед на конечную цель, а поверх подола пышной юбки, вниз, на канат, что выдает ее неопытность, если не обреченность, и заставляет за нее волноваться. За спиной юной циркачки близко видны перила и перекладины стойки, от которой она начала движение. Она успела сделать всего несколько — три? пять? шесть? — шагов на огромной высоте. Мы видим ее на фоне темной исполинской стены леса или старого парка и едва различимой толпы зрителей внизу, чьими задранными головами с неразборчивыми лицами вымощена нижняя часть картины. Цвет шелковой отделки платья перекликается с цветом вечернего неба — перекликается, но не повторяет его: голубизна неба имеет предзакатный оттенок зеленоватой бирюзы, голубизна лент на платье — нежная лазурь, непонятно откуда взявшая свой ясный дневной блеск. Искусственные источники света увели бы все в желтизну. Вполне ясно, что художник совершенно не ставил перед собой задачу создать оптически и астрономически достоверную световую среду. Символизм же такого сопоставления легко читается: перед нами возвышенная душа, небесное создание. Но, как уже сказано, небесное создание очень неуверенно чувствует себя на такой высоте. Канат в пространстве картины не имеет конца. Циркачка вполне во власти земного притяжения, телесной неопытности и робости, усугубленных непривычно пышным нарядом и украшениями: в ушах канатоходки крупные жемчужные сережки, почему-то кажется, они ее отягощают и отвлекают.
Провисание каната и выгиб шеста, составляющих перекрестье (крест?) в легко достраиваемом в воображении ракурсе снизу или сверху, две перпендикулярные пружинистые дуги удерживают не только канатоходку, но и внимание зрителя. В руках ее несколько куцый шест-балансир, провисающий концами непропорционально своей длине, — с физической достоверностью картине тоже не все в порядке. Но это работает на поддержание неуверенности и тревоги за девушку.
Точка, с которой и мы, и, в первую очередь, сам художник видит юную циркачку, — это точка невозможного присутствия. По крайней мере, под открытым небом. Канатоходка совершенно одинока на своей высоте. Это высота птичьего полета. Это точка зрения левитирующего или крылатого существа.
Я долго пытался понять секрет очарования этой картины — а она очаровательна: по-моему, как раз во внушенной мне как зрителю позиции и, пожалуй, даже роли ангела-хранителя, который своим сопереживанием страхует девушку от падения. Решена сложная задача — отстраненное наблюдение с замершим дыханием как включенность в ситуацию.
В отличие от зевак, находящихся внизу, художник и зритель, которому он дарит свою точку зрения, вознесены на высоту соприсутствия. Кроме того, создатель образа — скачок в другую сторону — ровня, собрат своему персонажу: неопытная канатоходка в своем громоздком наряде и со своим куцым шестом и так и не ставший мастером художник Соломаткин, балансирующий на грани профессионализма со своей пьяным комикованием и грубоватой кистью и на грани социальной приемлемости со своим сиротством, асоциальностью, алкогоголизмом (он плохо кончил)... Автопортрет?
Впервые я увидел «Канатоходку» на юбилейной выставке в Музее личных коллекций лет пятнадцать назад. Запомнил имя художника и потом постепенно рассмотрел другие его работы, которые до этого годами отсвечивали слепыми пятнами вокруг и около не особо увлекавших меня передвижников. Оказалось, Соломаткин не то что бы большая редкость. Он есть и в Третьяковке, и в ГРМ, и в барнаульском художественном музее — там я его видел в натуральном цвете и в натуральную величину. А еще репродукции картин, рассеянных по региональным и теперь уже зарубежным музеям — в Твери, Вологде, Ярославле, Туле, Саратове, Тамбове, Иркутске, Киеве, Одессе, Ташкенте.
Картины Соломаткина, хотя он и поучился в Академии художеств, не блещут технической виртуозностью. Иногда он ставит перед собой непростые задачи (многофигурная сцена, лунное освещение, ночной пожар), удивляет сочетанием красок (часто, скорее всего, вынужденным — за отсутствием выбора: что было под рукой, тем и писал), но картины не вызывают ощущения встречи с чудом большого стихийного таланта. Талант угадывается, но он как бы придавлен и «школой», так толком и не усвоенной, но как бы мешающей свободному и пышному цветению наива. Это диковато и по технике, и по анатомии, а то и просто халтурно (возможно, издержки поточного самоповтора с ощутимым сивушным душком). По большей части это жанрово-бытовые сцены, идущие от Федотова к Перову, с примесью малых голландцев, которых он видел в Эрмитаже, лубка и, вероятно, главным образом, журнальной карикатуры того времени.
Его иногда, безбожно льстя, сравнивают с Ватто. Да, Соломаткина тоже влечет мир лицедейства, бродячего актерства, но в более грубом, площадном, «физиологически-очерковом» варианте. Это, конечно, не Жиль сотоварищи, а, в лучшем случае, маленький савояр с сурком. Но и то с огромной натяжкой.
Картины Соломаткина, хотя он и поучился в Академии художеств, не блещут технической виртуозностью. Иногда он ставит перед собой непростые задачи (многофигурная сцена, лунное освещение, ночной пожар), удивляет сочетанием красок (часто, скорее всего, вынужденным — за отсутствием выбора: что было под рукой, тем и писал), но картины не вызывают ощущения встречи с чудом большого стихийного таланта. Талант угадывается, но он как бы придавлен и «школой», так толком и не усвоенной, но как бы мешающей свободному и пышному цветению наива. Это диковато и по технике, и по анатомии, а то и просто халтурно (возможно, издержки поточного самоповтора с ощутимым сивушным душком). По большей части это жанрово-бытовые сцены, идущие от Федотова к Перову, с примесью малых голландцев, которых он видел в Эрмитаже, лубка и, вероятно, главным образом, журнальной карикатуры того времени.
Его иногда, безбожно льстя, сравнивают с Ватто. Да, Соломаткина тоже влечет мир лицедейства, бродячего актерства, но в более грубом, площадном, «физиологически-очерковом» варианте. Это, конечно, не Жиль сотоварищи, а, в лучшем случае, маленький савояр с сурком. Но и то с огромной натяжкой.
Соломаткинские сцены с актерами лишены свойственной Ватто чудесной пограничности. В них нет ничего похожего на расступившуюся посреди сумеречного парка пленку театральной условности, заменяющую четвертую стену, откуда на тебя — а скорее, внутрь себя и внутрь тебя в одно и то же время — обращен взгляд персонажа, для которого не писан закон взаимной непроницаемости посюсторонней реальности, где находится зритель, и сочиненного мира картины — при том что и сам по себе этот мир текуч и зыбок, и не всегда ясно, что мы видим: парк, изображение парка на театральном заднике, или весь мир там состоит из разлитой в воздухе театральности разной степени сгущения. Персонажи Ватто уже сами по себе метафоричны, амбивалентны для самих себя, они всегда на границе существования в роли и вне роли, на сцене и вне сцены, себя и своего амплуа, тех, кого изображают и кем себя воображают. Эти Жили сами себе разлученные близнецы. И при этом — они автопортрет Ватто, и портрет зрителя…
Ничего этого у Соломаткина нет и близко, я уж не говорю о мазке Ватто, с растворенными в нем тонким влажным воздухом и гениальным рисунком...
К чему-то подобному внутренней многомерности Ватто у Соломаткина приближается только его единственный несомненный шедевр, чудесно возвышающийся над всеми прочими его работами, — «На канате».
Ничего этого у Соломаткина нет и близко, я уж не говорю о мазке Ватто, с растворенными в нем тонким влажным воздухом и гениальным рисунком...
К чему-то подобному внутренней многомерности Ватто у Соломаткина приближается только его единственный несомненный шедевр, чудесно возвышающийся над всеми прочими его работами, — «На канате».